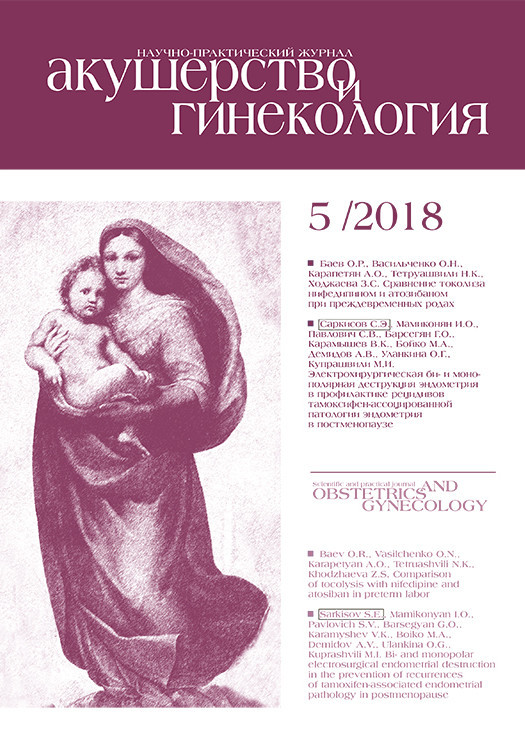Преэклампсия (ПЭ) наблюдается в 2–5% беременностей и вносит самый ощутимый вклад в материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность среди прочих гипертензивных состояний во время беременности, частота которых составляет 10% [1, 2].
В настоящее время ПЭ является самым загадочным состоянием в акушерстве, поскольку до сих пор нет ясного понимания патогенеза заболевания. Этиология, классификация, специфические клинические проявления, профилактика, прогнозирование, ранняя диагностика и акушерский менеджмент ПЭ являются объектом пристального исследования акушеров и представителей фундаментальных наук. Бесспорным является лишь факт последствий перенесенной ПЭ на качество последующей жизни женщины.
Признание двух фенотипических вариантов ПЭ (ранней и поздней) способствовало лучшему пониманию патофизиологии процессов и исходов беременности для матери и плода [3–6]. Было показано, что ранняя ПЭ характеризуется более тяжелым течением, развитием HELLP- синдрома, эклампсии, значимо чаще ассоциируется с задержкой роста плода и преждевременными родами в сравнении с поздней ПЭ [4–7]. При этом ранняя ПЭ осложняет малый процент беременностей, поскольку в большинстве наблюдений ПЭ развивается после 34 недель, и частота поздней ПЭ достигает 85% [8].
Факторы риска ПЭ многочисленны, но основными считаются возраст матери ≥40 лет и низкий уровень образования, высокий индекс массы тела, многоплодная беременность, первая беременность (относительный риск (ОР) 3,0), хроническая артериальная гипертензия (ОР 7,75), гестационный сахарный диабет (ОР 2,0), заболевания сердца или почек (ОР 2,38), анемия тяжелой степени (ОР 2,98), ПЭ в анамнезе (ОР 7,0), ПЭ у родственников первой линии родства (ОР 2–4), антифосфолипидный синдром (ОР 9,0) [9, 10].
Известно, что у женщин с ПЭ в анамнезе риск артериальной гипертензии выше в 3,6 раза в группе перенесших умеренную и в 6 раз – тяжелую ПЭ. При наличии в анамнезе двух беременностей, осложненных ПЭ, риск развития артериальной гипертензии повышен в 6 раз. Риск тромбоэмболии выше в 1,5 и 1,9 раза после умеренной и тяжелой ПЭ, соответственно [11]. Самое грозное последствие ранней ПЭ заключается в 20-кратном повышении риска смерти женщины от сердечно-сосудистых осложнений [5]. Кроме того, накапливается все больше данных о том, что у детей, рожденных от матерей, перенесших ПЭ, чаще наблюдаются артериальная гипертензия, метаболические нарушения, почти в 2 раза выше риск инсульта во взрослом возрасте [12, 13]. Таким образом, указанные риски значимо выше в группе женщин, перенесших тяжелую и, особенно, раннюю ПЭ. Следовательно, беременность можно рассматривать как своеобразный тест на «прочность» здоровья и индикатор последующего качества жизни женщины.
В связи с вышеизложенным ПЭ является актуальной междисциплинарной проблемой. Одна из первых работ, направленная на выявление детерминант ПЭ, охватывала широкий спектр возможных молекул-предикторов. Принимая во внимание роль воспаления в эндотелиальной дисфункции, при изучении цитокинов авторы обнаружили, что в сыворотке крови у пациенток с ПЭ был повышен уровень интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли-α. В дальнейшем было показано, что у пациенток, у которых развилась тяжелая ПЭ, уже в 8–10 недель отмечалось повышение концентрации рецептора интерлейкина-2. Далее авторы исследовали роль факторов роста в прогнозировании и диагностике ПЭ и показали снижение концентрации плацентарного фактора роста (PlGF) и сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) у пациенток с ПЭ, а также в 1-м триместре у женщин, у которых в дальнейшем развилась ПЭ. Кроме того было показано повышение уровня лептина у пациенток с ПЭ в сравнении с контролем. И наконец, было показано повышение концентрации внеклеточной плодовой ДНК в крови женщин, у которых развилась ПЭ, что объяснялось избыточным апоптозом трофобласта вследствие оксидативного стресса. В результате обломки клеток трофобласта попадают в кровоток матери, что делает возможным детекцию плодовой ДНК [14]. При этом в недавних работах было показано, что именно уровень внеклеточной фетальной ДНК может достоверно отличить тяжелую ПЭ от HELLP-синдрома [15].
Наиболее изученными являются ангиогенные молекулы, поскольку неоангиогенез необходим для нормальной плацентации. Так, по результатам скрининга 1-го триместра, оказалось, что плазменный протеин ассоциированный с беременностью (РАРР-А), плацентарный протеин 13 (РР13), растворимая fms-подобная тирозинкиназа (sFlt-1), пентраксин и ингибин-А были тесно взаимосвязаны с развитием ПЭ. В отношении белков PlGF, бета-хорионического гонадотропина и растворимого эндоглина подобной взаимосвязи обнаружено не было. При этом уровни РАРР-А, PlGF, РР13, растворимого эндоглина и ингибина-А были связаны с ранней ПЭ, а с развитием поздней ПЭ – только растворимый эндоглин и ингибин-А [16], что подтверждает правомочность существования двух фенотипических вариантов ПЭ. Вместе с тем, вышеуказанные про- и антиангиогенные молекулы неспецифичны даже для ранней ПЭ, поскольку их уровень также отличается при других патологиях, например, при синдроме задержки роста плода [17].
Следует отметить, что все известные прогностические маркеры ПЭ разработаны в основном для ранней ПЭ. Повышение резистентности в маточных артериях в 1-м триместре также является скрининговым тестом именно для ранней ПЭ.
Являясь большим акушерским синдромом, ПЭ представляет собой сложное заболевание как результат воздействия генетических, биологических и внешних факторов. Поэтому оправдано комплексное изучение данной патологии.
В последнее время в науке отмечается значимый тренд в сторону постгеномных омиксных технологий, составляющих основу персонализированной медицины. Так называемые ОМИКи (OMICs) являются реальными ускорителями мировой науки. Это – большая шкала изучения полных (завершенных) биологических процессов. ОМИКи включают в себя: геномику (анализ генома человека), транскриптомику (анализ транскриптов с генов путем анализа всех мРНК), протеомику (анализ конечных продуктов генов – белков) и метаболомику (анализ метаболитов, продуктов распада белков). Интерпретация этих обширных и комплексных данных позволяет более точно исследовать патогенез заболевания. Экспрессия генов в организме, в частности, в различных компартментах и органах, постоянно меняется, что cвидетельствует об индивидуальности каждого пациента и необходимости динамического контроля за исследуемыми параметрами.
Основным преимуществом протеомики является анализ конечного продукта гена, что является свидетельством того, что данный ген участвует в изучаемом процессе. Более того, при помощи методов протеомики возможен анализ тысяч различных молекул одновременно, что делает возможным более глобальную и объективную оценку потенциальных диагностических и прогностических молекул, сопровождающих или предшествующих клинической картине заболевания. Однако белок является достаточно крупной молекулой, специфичность которой для какого-то заболевания определить сложно. Поэтому интерес исследователей сконцентрировался на пептидоме, который представляет собой натурально образованные пептиды и фрагменты протеолиза белков с низкой молекулярной массой, ниже 10 кДа [18]. В отличие от протеомики, объект исследования пептидомики – пептиды в их естественном виде, то есть без применения специфических ферментов для расщепления in vitro. Они представляют собой продукт взаимодействия протеинов в рамках молекулярного патогенеза заболевания и могут обладать биологической активностью, отличной или даже противоположной активности исходного протеина.
Следует признать, что изучение протеома и пептидома при различных нозологиях является перспективным направлением, особенно в свете того, что учеными разных стран были показаны специфические панели белков/пептидов, свойственные пациенткам с ПЭ.
Например, при исследовании сыворотки крови пациенток с ПЭ было выявлено повышение концентрации фрагментов белков α1-антитрипсина, α1-микроглобулина, кластерина и гаптоглобина [19].
В другой работе было также показано, что с ПЭ ассоциированы белки: α2-HS-гликопротеин, кислото-лабильная субъединица инсулин-подобного фактора роста (ИПФР), α1-микроглобулин [20].
Согласно данным крупного обзора 2015 года [21], в сыворотке крови беременных с ПЭ было обнаружено 52 специфичных пептида, 14 фрагментов белков-предшественников, к которым относились фибриноген-α, α1-антитрипсин, аполипопротеин-1, кининоген-1, тимозин-β4, тяжелая цепь Н4 ингибитора интер-α-трипсина. Выявленные белки, по результатам последующего анализа, участвовали в различных процессах: в активации рецептора печени Х, сигнальных путях атеросклероза, эндоцитоза, реакции на стимулы, синтезе интерлейкина-12 макрофагами, системе коагуляции, внутреннем пути активации протромбина. Возможно, именно они впоследствии и обусловливают развитие соматической патологии у женщин, перенесших ПЭ.
В другом недавнем исследовании также был проведен сравнительный анализ сыворотки крови здоровых женщин и пациенток с ПЭ, по результатам которого было выявлено 24 различно экспрессируемых пептида: усиление экспрессии имело место у 21 и снижение – у 3 из их числа [22]. При анализе генной онтологии с использованием базы данных GO (gene ontology) оказалось, что детектированный 21 пептид участвуют в формировании фибрилл и сетей коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса. Стоит отметить, что внеклеточный матрикс состоит в основном из разных типов коллагена, протеогликанов и гликопротеинов, взаимодействие которых с клеточными рецепторами оказывает влияние на основные клеточные программы, включая рост, дифференцировку, миграцию и выживаемость.
При сравнении протеома плаценты пациенток с ПЭ и контрольной группы были обнаружены 180 различно экспрессируемых белка, которые, по данным анализа генной онтологии, участвуют в процессах ангиогенеза, апоптоза, оксидативного стресса, гипоксии, формирования плаценты [23].
Анализ научной литературы свидетельствует об обширной сети протеинов, которые, по мнению разных авторов, позволяют достоверно диагностировать или прогнозировать ПЭ. Несмотря на нечастые совпадения результатов, во многих наблюдениях прослеживается определенный набор биомаркеров, таких как эндоглин, α2-HS-гликопротеин, фибриноген, плазминоген, различные аполипопротеины и ИПФР-связывающий протеин [24]. Многие исследователи стремятся к созданию надежной и легко воспроизводимой панели маркеров ПЭ, способных достоверно прогнозировать развитие заболевания. К наиболее перспективным кандидатным молекулам относились кислото-лабильная субъединица ИПФР, эндоглин, ADAM12, PlGF, молекула адгезии клеток меланомы, селенопротеин Р, белок внеклеточного матрикса-1, мультимерин-2 [25].
В последние годы появляется все больше работ, посвященных поиску предикторов ПЭ в 1-м триместре беременности. И, судя по результатам, полученные данные обладают высокой чувствительностью и специфичностью. Так, была обнаружена панель из 39 кандидатных молекул, характерных для пациенток, у которых в итоге развилась ПЭ [26].
Из выявленных 39 было идентифицировано 19 пептидов. В опытной группе отмечалось снижение пептидов, относящихся к белкам комплемента 3 и β-фибриногена, и повышение ингибитора α-трипсина. Комбинирование детерминированных 19 пептидов позволило выявить 4 панели кандидатных маркеров с площадью под кривой более 0,8.
При анализе образцов плазмы крови беременных в 11–13 недель в сопоставлении с исходами беременности был выявлен паттерн из 12 протеинов в группе пациенток, у которых развилась ранняя ПЭ [27].
Стоит подчеркнуть, что среди выявленных белков α1-антитрипсин (также известный, как SERPINA1) является белком острой фазы, основной функцией которого является защита тканей от протеолитических ферментов в результате воспалительного процесса. Таким образом, его концентрация повышается в ответ на воздействие инфекции или травмы тканей. Этот белок используется в клинике в целях оценки степени воспаления и дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний. Однако повышение α1-антитрипсина было также отмечено среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с гипертензией [28]. Гаптоглобин, белок острой фазы и антиоксидант, предотвращающий реакции окисления железа гема путем связывания гемоглобина, синтезируется в печени, однако недавние работы свидетельствуют в пользу его образования также в эндометрии и децидуальной оболочке. К тому же была показана его ангиогенная активность, что, возможно, обусловливает его роль в качестве возможного маркера преэклампсии [29].
α1-микроглобулин, белок низкой молекулярной массы, синтезируется гепатоцитами и быстро распределяется по кровотоку во внесосудистый компартмент. В норме этот белок фильтруется в почках и полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах, однако у пациенток с ПЭ, альфа1-микроглобулин свободно выводится с мочой, что является признаком эндотелиальной дисфункции. Недавно было показано, что данный белок экспрессируется при окислительном стрессе, и что его синтез повышен в ответ на воздействие активных форм кислорода [30].
Стремительные успехи молекулярно-биологических наук способствовали поискам неинвазивных предикторов и маркеров различных патологических состояний. В отношении ПЭ наиболее перспективной биологической средой для изучения является моча, поскольку протеинурия в отсутствии предшествующей патологии мочевыводящих путей – это симптом ПЭ. Следует отметить при этом, что Американский и Канадский колледжи акушеров-гинекологов исключили протеинурию, как один из критериев диагностики, хотя и признают ее значение в тяжести клинических проявлений и осложнений ПЭ.
В поисках неинвазивных предикторов ПЭ интерес исследователей сконцентрировался на пептидоме мочи. Так, в недавних работах Buhimschi и соавт. было показано, что для пациенток с тяжелой ПЭ характерен определенный паттерн пептидов, при помощи которого возможна дифференциальная диагностика гипертензивных состояний во время беременности и предикция прогрессирования заболевания [31]. В частности, по данным авторов, фрагменты белка α1-антитрипсина и альбумина отмечаются в моче женщин до дебюта клинических симптомов ПЭ. При исследовании пептидома мочи Carty и соавт. также обнаружили определенную панель пептидов в сроке 28 недель беременности у женщин, у которых в последующем развилась ПЭ, и выяснили, что они образуются в процессе деградации продуктов фибриногена, коллагена и уромодулина [32]. Как видно, среди выявленных биомаркеров оказались фрагменты альфа-цепи фибриногена, альфа-цепи коллагена и уромодулина.
Подобные результаты были получены отечественными исследователями в результате сравнительного анализа пептидома мочи пациенток с тяжелой ПЭ и женщин из контрольной группы [33]. Было показано, что специфичными для тяжелой ПЭ были пептиды – фрагменты α-цепей α-антитрипсина (14 пептидов), коллагена типов I и III (6 пептидов) и уромодулина (7 пептидов).
В своих дальнейших работах Buhimschi и соавт. продемонстрировали, что моча пациенток с ПЭ обладает свойством конгофилии (нарушение конформации белка, что ведет к накоплению амилоидных агрегатов). Данное открытие было сделано при окрашивании мочи Конго красным [34]. Окраска Конго красным широко используется в идентификации амилоида в клетке. Недавно была показана способность этой краски выявлять неверно свернутые белки ввиду их сходства с амилоидом. Более того, оказалось, что интенсивность и стойкость окрашивания мочи возрастает с утяжелением симптомов ПЭ. Данный тест позволяет диагностировать как ПЭ, так и ПЭ на фоне сопутствующей патологии, а также прогнозировать развитие ПЭ у пациенток с хронической артериальной гипертензией или развитие тяжелой ПЭ, требующей срочного родоразрешения по медицинским показаниям. Стоит также отметить, что у пациенток с атипичным течением ПЭ (без повышения артериального давления или протеинурии) наблюдалась конгофилия задолго до появления симптомов. Все пациентки из этой группы потребовали родоразрешения в связи с симптомами ПЭ. Таким образом, авторы подчеркивают, что ПЭ относится к заболеваниям, обусловленным нарушением конформации белка, поскольку, помимо конгофилии, у пациенток с ПЭ также наблюдается дизрегуляция протеолитических ферментов, участвующих в процессинге белков-предшественников амилоида. В доказательство высказанной теории было показано наличие амилоидоподобных белков, синтезированных из белков-предшественников амилоида, в моче пациенток с ПЭ. Согласно предположению ученых, избыточное количество фрагментов α1-антитрипсина и альбумина может образовываться в результате дисбаланса между протеолизом и антипротеолизом (наподобие синтеза β-амилоида из белка-предшественника у пациентов с болезнью Альцгеймера).
В плаценте женщин с ПЭ также был отмечен повышенный уровень белков-предшественников амилоида, что косвенно может свидетельствовать о нарушенном или недостаточно эффективном процессе клиренса неверно свернутых белков. Таким образом, протеинурия при ПЭ может рассматриваться не только как результат нарушения целостности гломерулярного барьера, но и как дополнительный способ удаления агрегатов белка. Однако было показано, что при сахарном диабете, хронических аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваниях или заболеваниях почек, а также у женщин старшего репродуктивного возраста также отмечается повышенный уровень белков с нарушением конформации [35].
При более глубоком исследовании мочи пациенток с ПЭ, свойство конгофилии было предложено в качестве критерия диагностики и предикции ПЭ. В своей работе авторы говорят о возможности использования конгофилии вместо протеинурии в качестве маркера ПЭ, поскольку используемые в настоящее время методы оценки протеинурии не могут дать оценку качественного состава белков с нарушенной конформацией, что, по мнению авторов, является процессом, более тесно связанным с патофизиологией ПЭ, в сравнении с протеинурией в целом.
Конгофилия свидетельствует о нестабильности протеина и отражает присутствие амилоидного белка, который представляет собой агрегаты неправильно свернутых белков, вовлеченных в патофизиологические процессы развития ПЭ. Более 10 лет назад появилось мнение о том, что растворимые олигомеры амилоида, являясь первичным токсичным агентом, вовлечены в патогенез различных заболеваний [36]. McCarthy и соавт. провели глубокое исследование в 2016 г., включив в него разные группы женщин: с ПЭ, с хронической и гестационной артериальной гипертензией, с системной красной волчанкой, с хронической болезнью почек, с ПЭ, развившейся на фоне хронической болезни почек (ХБП) или на фоне хронической артериальной гипертензии. В качестве контроля выступали небеременные здоровые женщины. Также были проанализированы образцы от небеременных женщин с системной красной волчанкой с люпус-нефритом и без. Результаты показали повышенный уровень конгофилии мочи в группах ПЭ, ХБП и ПЭ на фоне ХБП, а также у небеременных женщин с люпус-нефритом. Более того, авторы отмечают сильную положительную корреляцию между степенью конгофилии и соотношением протеин/креатинин [37].
Ученые полагают, что стресс в эндоплазматическом ретикулуме плаценты, как и в других клетках, ведет к активации пути, связанного с неверно свернутыми белками. Это является стандартным механизмом клеточной защиты, который приводит к удалению из клетки несвернутых или неправильно свернутых белков, чтобы предотвратить накопление потенциально токсических молекул. Активация ответа, вовлекающего неверно свернутые протеины, была доказана в патогенезе ранней, но не поздней ПЭ [38].
В связи с доказанной ролью белков с неправильной конформацией в патогенезе ПЭ, полагают, что степень окраски мочи Конго красным является более специфичным тестом, чем суточная протеинурия. Учитывая простоту и низкую стоимость данного теста, даже было предложено использовать его в рамках приложения на смартфоне для диагностики заболевания в странах с низким уровнем дохода [39].
Для проведения теста «Конго красная точка» не требуется участия обученного персонала или подключение к интернету и нужен минимум материала: окраска Конго красный и нитроцеллюлозная бумага, на которую наносятся отдельные капли мочи, окрашенной красителем. Далее в течение 2 минут смартфон обрабатывает полученное изображение и оценивает степень окраски мочи.
Неэффективные попытки поиска одного маркера-предиктора ПЭ, связаны с ее многофакторностью и многокомпонентностью. Вполне вероятно, что поиск панели маркеров может оказаться более эффективным. Для этой цели требуются новые методы анализа, и ОМИКи предлагают информативные инструменты к пониманию комплексных биологических процессов.
Технологии протеомики и пептидомики дают возможность обнаружения множества маркеров, и это было тщательно изучено в отношении различных осложнений беременности [40]. К сожалению, определение маркеров ограничено биологическим материалом, размером выборки и примененными технологиями. Несмотря на то, что плацентарная ткань, как полагают, отражает патофизиологию заболевания, она не подходит для постановки диагноза до тех пор, пока женщина не будет родоразрешена. И хотя в сравнении с плацентой, исследование плазмы проще, этот подход имеет свои недостатки. Во-первых, необходимо разделять белки, широко представленные в плазме, от белков с низкой концентрацией. Во-вторых, забор и дальнейшая обработка плазмы является технически более сложным процессом. Таким образом, моча представляется наиболее удобным и наименее инвазивным материалом для исследования.
Заключение
Полученные данные ряда авторов свидетельствуют о реальных перспективах данного подхода. Вероятно, необходима разработка комбинации маркеров для предикции гипертензивных нарушений во время беременности и ПЭ, в частности. Даже в популяции, кажущейся гомогенной, ПЭ все же представляет собой целый спектр заболеваний, различных по степени тяжести, срокам дебюта и развившимся осложнениям. Обнаружение надежной панели маркеров ПЭ сделает возможным, помимо прочего, ее плотный мониторинг, оценку эффективности лечения и определение срока оптимального родоразрешения у каждой беременной, что и входит в понятие персонифицированного акушерского подхода.