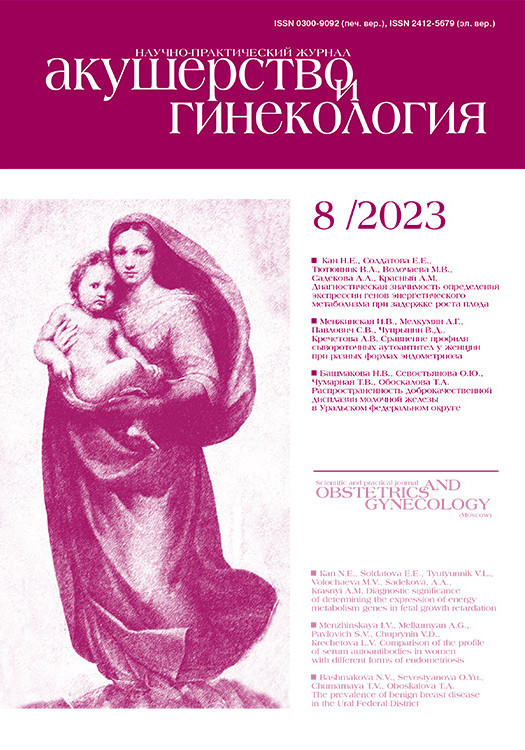Плацента, несмотря на временный характер своего развития и существования, обеспечивает полноценный рост и развитие плода. В первую очередь это происходит за счет передачи необходимых питательных веществ и кислорода и защиты от «вредных», инфекционных и мутагенных воздействий [1]. Кроме того, структуры плаценты обеспечивают иммунологическую толерантность плода и вырабатывают ряд биологически активных веществ и гормонов, участвующих в развитии органов и тканей плода [2].
Соответственно, повреждения структур плаценты и нарушения ее функций могут явиться причиной нарушений развития плода и заболеваний новорожденного [3, 4]. Особое место занимает головной мозг, нарушения развития которого могут быть обусловлены различными внешними и внутренними факторами, а также изменениями самой плаценты.
Цель работы: анализ данных литературы о роли патологии плаценты в развитии поражений головного мозга новорожденного.
Согласно современной международной классификации поражений плаценты [5], все ее патологические изменения разделены на три группы: сосудистые нарушения, воспалительные изменения и так называемые другие поражения. В свою очередь, сосудистые поражения представлены двумя подгруппами: нарушениями материнского кровотока (maternal vascular malperfusion) и нарушениями плодного кровотока (fetal vascular malperfusion). Материнский компартмент (часть) плаценты представлен ремоделированными кровеносными сосудами децидуальной оболочки и матки, материнской поверхностью плацентарного диска и межворсинковым пространством. Плодный компартмент состоит из пуповины, плодной поверхности плацентарного диска и ворсин; соответственно, плодный компартмент кровообращения плаценты представлен сосудами пуповины (веной и двумя пуповинными артериями) с ее хориальными ветвями и сосудами ворсин [6]. Соответственно, расстройства кровообращения в одном или обоих компартментах закономерно приводят к нарушениям притока и/или оттока крови, развитию гипоксии и ишемии тканей.
Расстройства материнского кровообращения в плаценте могут быть обусловлены нарушениями имплантации, перфузии и целостности самой плаценты. Так, недостаточная (поверхностная) инвазия вневорсинкового трофобласта приводит к неполноценному ремоделированию спиральных артерий с последующим недостаточным кровоснабжением и развитием гипоплазии плаценты, задержки роста плода, преэклампсии. Недостаточная перфузия ткани плаценты является причиной гипоплазии дистальных ворсин, ускоренного созревания ворсин и инфарктов. Нарушения целостности плаценты происходят в результате преждевременной ее отслойки.
Действительно, нарушения имплантации и ремоделирования спиральных артерий в настоящее время считаются начальными звеньями патогенеза преэклампсии, приводящими к ишемии плаценты [7]. Развивающаяся вследствие этого гипоксия приводит к дисбалансной продукции клетками плаценты проангиогенных и антиангиогенных факторов, определяющей клиническую картину и поражения органов как матери, так и плода [8].
Соответственно, еще в 1994 г. Gaffney G. et al. [9] на основании обследования доношенных новорожденных выявили повышенный риск развития церебрального паралича при преэклампсии: при учете всех наблюдений преэклампсии отношение шансов (ОШ) составило 2,0 (95% доверительный интервал (ДИ): 1,2–3,4), при тяжелой преэклампсии – 3,7 (95% ДИ: 1,4–9,9). Дальнейшие исследования подтвердили повышенный риск преэклампсии для развития церебрального паралича [10], а также нарушений по типу аутизма и расстройств мозгового кровообращения [11, 12]. Даже у взрослых пациентов, родившихся на фоне преэклампсии, была отмечена повышенная склонность к депрессивным состояниям [13].
Вместе с тем ряд авторов [14, 15], особенно при исследовании недоношенных новорожденных, не выявили отрицательного влияния преэклампсии на развитие неврологических расстройств и поражений головного мозга. Основной причиной подобного разнообразия является, по мнению Collins M. et al. [16], наличие различных форм и неоднозначность критериев, для диагностики как преэклампсии, так и поражений головного мозга. На наш взгляд, решающим моментом негативного влияния на плод является развитие не только расстройств кровообращения материнской части плаценты, но и нарушений гемодинамики в плодном компартменте плаценты, приводящих к гипоксии плода [17].
Тем не менее нарушения перфузии в материнском компартменте плаценты в виде большого количества синцитиальных узелков в терминальных ворсинах и острого атероза децидуальных артериол имели самостоятельное значение в отношении повышения ОШ для развития церебрального паралича у новорожденных: 3,1 (1,1–8,5, p<0,05) и 3,9 (1,2–13,2, p<0,05) соответственно [18]. Ускоренное созревание ворсин, отмечаемое при микроскопии препаратов плаценты в виде наличия меньшего размера агглютинированных ворсин с увеличенным количеством синцитиальных узелков и снижения количества разветвленных ворсин, также является признаком нарушения материнского кровообращения в плаценте. Подобные изменения были выявлены Burke C.J. et al. [19] в 55% наблюдений плацент мертворожденных с признаками ишемического повреждения головного мозга.
Крайним выражением нарушения перфузии плаценты закономерно считается развитие инфаркта ворсин; при этом поражение более 5% площади ворсин в непериферических областях плаценты считается выраженным нарушением кровообращения материнского компартмента плаценты.
Для множественных мелких инфарктов ворсин установлено не значимое, но в 2,4 (0,7–8,3; p>0,05) раза увеличенное ОШ для развития церебрального паралича [18]. В то же время макроскопические наблюдаемые инфаркты были отмечены в 85% плацент мертворожденных на сроках гестации 20 недель и больше с ишемическими поражениями головного мозга [19]. По данным Nielsen L. et al. [20], патологические изменения плаценты (главным образом инфаркт) и пуповины (шейное обвитие) наблюдались в 21% случаев новорожденных и детей с признаками спастической квадриплегии и в 12% случаев контрольной (без неврологических расстройств) группы. В результате многофакторного анализа авторы отметили увеличение в 3,9 раза частоты развития спастической квадриплегии в наблюдениях с инфарктом плаценты и в 2,8 раза всех видов спастических состояний (плегий) при шейном обвитии пуповины [20].
При сравнительном анализе плацент в наблюдениях перинатальной смерти (n=158), а также живорожденных с наличием (n=445) или отсутствием признаков церебрального паралича (n=491) наиболее высокая частота визуально диагностированных инфарктов плаценты установлена в случаях церебрального паралича (в 5,2% наблюдений, относительный риск (ОР) 2,5; 95% ДИ: 1,2–5,3, p<0,05) и спастической квадриплегии (в 8,4% наблюдений, ОР 4,4; 95% ДИ: 1,8–10,6; p=0,0026) [21]. В контрольной группе, у детей с отсутствием признаков церебрального паралича и неврологических расстройств в возрасте 12 месяцев инфаркты плаценты отмечались в 2,0% наблюдений. При этом частота выявления инфаркта плаценты в наблюдениях детей с церебральным параличом ассоциировалась с низкой массой новорожденного, более старшим возрастом матери и большим количеством предшествующих выкидышей [21].
Наиболее частой причиной нарушения целостности плаценты является преждевременная ее отслойка, частота которой составляет 0,4–1% от всех беременностей [22]. По данным Downes K.L. et al. [23] отслойка плаценты в 3,4–51,8% наблюдений приводит к мертворождению, а в 1,1–19% – к неонатальной смерти. К сожалению, в соответствии с правилами выбора основного заболевания [24], преждевременная отслойка плаценты не может фигурировать в качестве первоначальной причины смерти, только в качестве состояния, способствовавшего (обусловившего) гибели. Соответственно, в Российской Федерации по данным Росстата за 2014 г. отслойка плаценты фигурировала в качестве состояния, обусловившего мертворождение, в 11,8% всех мертворожденных [25] и в 7,06% наблюдений ранней неонатальной смерти [26].
Нарушения кровоснабжения и гипоксия плода, развивающиеся при преждевременной отслойке плаценты, закономерно приводят и к поражениям головного мозга. Соответственно, в литературе есть указания на наличие прямой связи между преждевременной отслойкой плаценты и развитием церебрального паралича у новорожденных [27]. Так, по данным Pariente G. et al. [28], показатели диагностики церебрального паралича у новорожденных от матерей, перенесших преждевременную отслойку плаценты, значимо превышали показатели контрольной группы без отслойки (0,73 против 0,10 на 1000 человек в год).
При этом ряд исследователей отметили, что дополнительным патогенетическим фактором развития церебрального паралича является ацидемия, которая также способствует и преждевременной отслойке плаценты. В наблюдениях церебрального паралича и отслойки плаценты установлены более низкие показатели рН пуповинной крови, чем в группе новорожденных без церебрального паралича [29].
Преждевременная отслойка плаценты также была ассоциирована с более высоким риском развития гипоксически-ишемической энцефалопатии, диагностированной у 17% младенцев, по сравнению с 1% в контрольной группе [30]. По данным Gonen N. et al. [31], ОШ выявления у новорожденных тяжелых состояний, включая гипоксически-ишемические повреждения и перивентрикулярную лейкомаляцию головного мозга, в случаях преждевременной отслойки плаценты составило 5,3 (95% ДИ: 3,9–7,6). Spinillo A. et al. [32] также показали более высокий значимый риск развития внутрижелудочкового кровоизлияния III и IV степени у новорожденных при отслойке плаценты, по сравнению с контрольной группой (ОШ 3,5; 95% ДИ: 1,01–12,2).
В обстоятельном исследовании случай-контроль, проведенном в двух академических референсных центрах Франции, был проведен клинико-инструментальный анализ новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией средней и тяжелой степени или умерших в течение первых 28 дней жизни в зависимости от места возникновения (в стационаре или вне стационара) преждевременной отслойки плаценты [33]. Среди 152 наблюдений отслойки плаценты в 44 (29%) случаях диагностирована гипоксически-ишемическая энцефалопатия или наступила смерть (в 27 случаях в неонатальном периоде). Более высокая частота развития гипоксически-ишемической энцефалопатии и смерти новорожденного установлена в случаях внебольничного развития отслойки плаценты (89% против 56% в контрольной группе, p<0,01).
Справедливости ради следует добавить, что Furukawa S. et al. [34] не выявили значимой разницы в частоте диагностики церебрального паралича у новорожденных в группах с отслойкой плаценты и без нее. Отсутствовали значимые различия в частоте выраженного внутрижелудочкового кровоизлияния в группах с отслойкой плаценты и ее отсутствием [35].
Наличие подобных неоднозначных заключений явилось основанием для проведения систематического обзора и метаанализа, в частности, Oltean I. et al. [35], основанного на анализе полнотекстовых публикаций случай-контроль и когортных исследований на английском и французском языках с 1946 г. по декабрь 2019 г. в журналах из баз данных Medline и Embase. Авторы установили, что вероятность развития церебрального паралича у новорожденных и младенцев при преждевременной отслойке плаценты выше, чем у младенцев, рожденных беременными без признаков отслойки плаценты (ОШ=5,71; 95% ДИ: 1,17–27,91; I²=84,0%). При этом отмечено отсутствие значимой разницы в степени риска развития внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции у новорожденных при преждевременной отслойке плаценты, по сравнению с наблюдениями без отслойки плаценты (ОШ=1,20; 95% ДИ: 0,54–2,68; I²=32,3% и ОШ=6,51; 95% ДИ: 0,94–45,16; I²=0%) [35].
Говоря о нарушениях материнского кровотока в плаценте, необходимо добавить, что наличие выраженных его форм связано с риском рецидива в 10–25% случаев при последующих беременностях [36].
Нарушения кровотока в плодном компартменте плаценты обусловлены нарушениями развития ворсин (замедленным их созреванием и изменением капилляров), перфузии в сосудах, а также патологией пуповины и ее сосудов.
Так, еще в 1961 г. Gruenwald P. [37] отметил наличие участков аваскулярных ворсин в плацентах у 11 (48%) из 24 новорожденных с церебральным параличом. Целенаправленному исследованию роли тромботической васкулопатии ворсин как одного из вариантов поражения плодного компартмента плаценты был посвящен ретроспективный анализ результатов 84 перинатальных вскрытий (мертворожденных и новорожденных, умерших в раннем неонатальном периоде), проведенных в Медицинском центре St. John's Mercy в г. Сент-Луис (штат Миссури, США) с 1995 г. по 1997 г. [38]. Гистологическое заключение о выраженной тромботической васкулопатии делалось на основании поражения более 2,5% всего ворсинкового дерева при наличии множественных очагов поражения либо при выявлении одного участка площадью более 0,25 см² на препаратах плаценты. В результате проведенного анализа в 19% (16 из 84) наблюдений мертворожденных и умерших новорожденных была выявлена тромботическая васкулопатия ворсин плаценты. При этом в 6 (37,5%) из этих 16 наблюдений были выявлены тромбы различной локализации, в том числе в головном мозге, при изучении трупного материала. К сожалению, по заявлению самих авторов, им не удалось дать однозначное заключение о природе (первичной или тромбоэмболической из сосудов плаценты) всех выявленных тромбов у мертворожденных и умерших новорожденных [38].
Действительно, одной из причин развития перинатального ишемического инфаркта головного мозга, выявляемого в среднем у 1 из 1600 живорожденных, считается тромбоз в плодном сосудистом компартменте плаценты с последующим развитием тромбоэмболии венозного русла плода и попаданием в головной мозг через открытое овальное отверстие или открытый артериальный проток [39]. В качестве подтверждения можно привести результаты клинико-лучевых исследований 5 новорожденных с артериальным ишемическим инфарктом головного мозга и гистологически подтвержденными нарушениями кровообращения плодного компартмента плаценты [40]. Все выявленные инфаркты локализовались в передних отделах головного мозга; у двух пациентов они были множественными. Причиной относительно редкого выявления сочетания тромботической васкулопатии ворсин плаценты и ишемического инфаркта головного мозга у новорожденного является, по мнению авторов [40], появление клинических признаков ишемического инфаркта головного мозга через 12–72 ч, а то и больше, после рождения, когда неисследованная плацента уже утилизирована. В большинстве зарубежных стран, в отличие от Российской Федерации, морфологическому исследованию подлежит лишь часть плацент: только тех, где появились клинические признаки заболеваний, обусловленных поражением плаценты.
По данным Vik T. et al. [41], частота выявления так называемого общего нарушения плодного кровотока в плаценте (данный термин рекомендован для применения вместо ранее использовавшегося «плодная тромботическая васкулопатия») в наблюдениях новорожденных с неонатальной энцефалопатией почти в 3 раза превышала показатели контрольной группы без энцефалопатии: 20% против 7% (ОШ=3,2; 95% ДИ: 1,5–6,6). При исключении из анализа новорожденных с врожденными аномалиями развития ОШ составило 3,0 (95% ДИ: 1,4–6,6). В другом исследовании были изучены плаценты 125 новорожденных с различными неврологическими расстройствами (неонатальная энцефалопатия, церебральный паралич), явившимися предметом судебных разбирательств по поводу халатности клиницистов, в качестве контрольной группы анализировалось 250 плацент последовательных одноплодных родов на сроке 36 недель [42]. В результате проведенного исследования выявлено более частое поражение сосудов плаценты, включая тромботическую васкулопатию и хориоамнионит с васкулитом, в основной группе по сравнению с контрольной группой (в 51% наблюдений против 10%, p<0,0001).
Следует также учитывать, что нарушения плодного кровотока в плаценте считаются причинами развития целого ряда неблагоприятных перинатальных исходов, в частности, задержки роста и внутриутробной гибели плода, а также акушерских и материнских осложнений. При этом нарушения плодного кровотока характеризуются относительно низким риском развития рецидива при последующих беременностях [43].
Вторая группа патологических процессов в плаценте объединяет инфекционно-воспалительные и иммунные поражения, среди которых выделяют острые и хронические формы. К сожалению, до настоящего времени отсутствуют единые определение и критерии диагностики хориоамнионита. Соответственно, существует два понятия: клинически диагностированный хориоамнионит и хориоамнионит, установленный на основании морфологического исследования препаратов плаценты. Клиническими признаками острого хориоамнионита считаются: повышение температуры тела более 37,5°С и лейкоцитоз у беременной, боли в животе, болезненность при пальпации в области матки, неприятный запах выделений из влагалища, тахикардия у беременной и плода.
Патологоанатомическая диагностика основана на выявлении нейтрофильного инфильтрата в структурах плаценты. При морфологическом выявлении признаков воспаления в плодной части плаценты (васкулит сосудов пуповины, фунизит) говорят о воспалительном ответе плода (fetal inflammatory response), в материнской части (хориоамнионит) – о материнском воспалительном ответе (maternal inflammatory response) [6].
В большинстве имеющихся данных литературы отмечается, что воспалительные поражения плаценты ассоциируются с повышенной частотой ранних неврологических нарушений, включая неонатальную энцефалопатию, церебральный паралич, внутрижелудочковые кровоизлияния и перивентрикулярную лейкомаляцию, особенно у недоношенных новорожденных.
Так, морфологические признаки острого хориоамнионита с воспалительным ответом плода были выявлены почти у трети новорожденных с неонатальной энцефалопатией (n=93); в контрольной же группе здоровых новорожденных (n=816) они наблюдались лишь в 5% наблюдений [44]. В результате обследования недоношенных новорожденных Mir I.N. et al. [45] установили, что тяжесть развития неонатальной энцефалопатии была связана с острым хориоамнионитом с наличием или отсутствием воспалительной реакции плода, выявленным при гистологическом исследовании, и ацидозом, установленным при анализе пуповинной крови. Другим отягчающим фактором развития неонатальной энцефалопатии при хориоамнионите с явлениями фунизита является наличие тромботической васкулопатии ворсин плода.
Хронический виллит также считается фактором риска развития неонатальной энцефалопатии. В настоящее время хронический виллит обозначается, как виллит неустановленной (неизвестной) этиологии, поскольку в большинстве исследований образцов плаценты инфекционный агент не определяется и расценивается как иммунное поражение Т-клетками материнского происхождения. Диффузный хронический виллит высокой степени тяжести, сочетающийся с нарушениями плодного компартмента плаценты, относится к факторам риска как неонатальной энцефалопатии, так и церебрального паралича в отсутствие неонатальной энцефалопатии [42].
В обширном случай-контроль исследовании, основанном на анализе 424 младенцев с массой тела при рождении более 2500 г, было установлено, что хориоамнионит, диагностированный как на основании клинических признаков, так и при морфологическом изучении препаратов плаценты, был связан с повышенным риском развития спастического церебрального паралича [46]. В другом исследовании, объединившем 16 центров Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health и Human Development Neonatal Research Network, были проанализированы показатели развития головного мозга, когнитивные и поведенческие характеристики 2390 младенцев, родившихся на сроках гестации менее 27 недель [47]. В результате исследования авторами выявлена значимая связь между хориоамнионитом (гистологическим и клиническим) и повышенным риском когнитивных нарушений по сравнению с контрольной группой: ОШ составило 2,38 (95% ДИ: 1,32–4,28). При этом частота развития поведенческих реакций не имела значимых различий в группах с хориоамнионитом и без него [47].
Важным доказательством негативного влияния хориоамнионита на развитие церебрального паралича у новорожденного, несомненно, являются результаты метаанализа литературных данных (15 из 308 найденных) в PubMed, опубликованных с 2000 г. по 2009 г. [48]. ОШ для развития церебрального паралича при клинически выявленном хориоамнионите составило 2,42 (95% ДИ: 1,52–3,84) и 1,83 (95% ДИ: 1,17–2,89) при хориоамнионите, установленном при морфологическом изучении плаценты. Усугубляющим фактором развития церебрального паралича у новорожденных, родившихся на сроках гестации менее 29 недель, является сочетание хориоамнионита с фунизитом. По данным же Salas A.A. et al. [49], сочетание хориоамнионита с фунизитом повышало не только риск развития неврологических расстройств у младенцев, родившихся на сроках гестации 23–28 недель, но и их смерть в первые 2 года жизни.
В ряде исследований было показано, что развитие хориоамнионита увеличивает также риск развития внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции. При этом значения выявленных показателей отличаются в различных исследованиях. Alexander J.M. et al. [50] установили, что наличие клинических признаков хориоамнионита в 2,8 раза повышает риск развития внутрижелудочковых кровоизлияний и в 3,4 раза – перивентрикулярной лейкомаляции у новорожденных с низкой (менее 1500 г) массой тела при рождении. По данным же многоцентрового исследования в канадских больницах ОШ развития тяжелых форм внутрижелудочковых кровоизлияний у новорожденных при хориоамнионите составило 1,62 (95% ДИ: 1,17–2,24) [51].
Примечательно, что частота и выраженность кровоизлияний зависят от локализации (в материнской или плодной части) воспалительной инфильтрации в структурах плаценты. При воспалительных процессах, классифицированных как воспалительный ответ плода, ОШ для развития внутрижелудочкового кровоизлияния II–IV степени у новорожденных составило 4,1 (95% ДИ: 1,3–13.2). Если же воспаление наблюдалось только в материнской части плаценты, то риск развития кровоизлияния отсутствовал (ОШ=0,9; 95% ДИ: 0,2–3,7) [52]. В то же время, по данным Andrews W.W. et al. [53], наличие полиморфноядерной инфильтрации в структурах плаценты не отличалось в группах новорожденных на гестационном сроке до 32 недель с внутрижелудочковым кровоизлиянием и без него; тогда как мононуклеарная инфильтрация децидуальной оболочки (decidua basalis) значимо чаще отмечалась в группе с кровоизлиянием (23,8% против 7,4%, p=0,0004)
Следует также отметить, что взаимосвязь между хориоамнионитом и развитием неврологических расстройств у новорожденных отмечалась не во всех исследованиях. Действительно, Dexter S.C. et al. [54] в результате сравнительного анализа состояния детей в возрасте 7 месяцев, родившихся с массой тела менее 1250 г при клинических признаках хориоамнионита (основная группа) и их отсутствии (контрольная группа), отметили отсутствие значимых различий средних значений умственного и психомоторного индексов развития по шкале Bayley: 91,2 против 91,8 (p=0,84) и 89,8 против 89,1 (p=0,82) соответственно. Arayici S. et al. [55] также не выявили различий в показателях умственного и психомоторного развития у младенцев, родившихся на сроках гестации менее 32 недель в группе с хориоамнионитом (n=39) и при его отсутствии (n=33).
Более того, на основании метаанализа 84 статей, посвященных исследованию хориоамнионита и поражений (внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции) у недоношенных (менее 37 недель гестации) новорожденных, Ylijoki M.et al. [56] сделали заключение, что большинство проанализированных статей не подтверждают гипотезу о том, что хориоамнионит является независимым фактором риска для повреждений головного мозга у недоношенных новорожденных. При этом авторы подчеркнули, что полноценное дородовое применение кортикостероидов, возможно, снизило неблагоприятное влияние воспаления плаценты на развивающийся головной мозг и, соответственно, частично объясняет различия имеющихся данных литературы о риске влияния хориоамнионита.
Тем не менее при морфологическом выявлении хронического виллита следует иметь в виду, что риск его развития при последующей беременности составляет 50%; при этом возрастает степень нарушения плодного кровообращения в плаценте [57].
Третья группа поражений и аномалий плаценты включает в себя массивные отложения периворсинкового фибрина, последствия длительного воздействия меконием, увеличенное количество ядросодержащих эритроцитов в сосудах ворсин, нарушения имплантации плаценты, а также аномалии ее формы и прикрепления пуповины.
Массивные отложения периворсинкового фибрина (фибриноида) характеризуются наличием фибрина и матриксного фибриноида, окружающего не менее 30% площади дистального отдела ворсинкового дерева, в частности, на материнской поверхности плаценты. Ранее подобные изменения обозначались термином «инфаркт материнского ложа плаценты» (maternal floor infarction). Однако, в отличие от истинного инфаркта ворсин, при таких отложениях фибрина наблюдается относительная сохранность межворсинкового пространства, а при инфаркте последнее отсутствует.
Считается, что массивные отложения фибрина снижают плацентарную циркуляцию крови как в материнской, так и в плодной ее части, обуславливающую задержку роста и поражения органов плода, проявляющиеся, в том числе, и неврологическими расстройствами у новорожденного [58].
Анализу роли массивного периворсинкового отложения фибрина в плаценте в развитии неврологических расстройств и поражений головного мозга у младенцев была посвящена публикация Adams-Chapman I. et al. [59], основанная на обследовании всех младенцев, родившихся в клинике Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1998 г., в плацентах которых диагностировано массивное отложение фибрина. По данным ультразвукового исследования у таких младенцев чаще, по сравнению с контрольной группой, отмечались признаки расширения боковых желудочков (24% против 21%), внутрижелудочкового кровоизлияния III–IV степени (14% против 2%), перивентрикулярной лейкомаляции (24% против 12%) и поражения белого вещества головного мозга (38% против 14%, p=0,036). При этом у 40% таких младенцев выявлены неврологические расстройства, в частности, умственной и двигательной активности (40% против 10%, р=0,059), в связи с чем авторы рекомендуют всем новорожденным, родившимся с диагностированным массивным отложением фибрина в плаценте, проводить ультразвуковое исследование головного мозга как минимум через 1 месяц после рождения для выявления и коррекции возможных поражений [59].
Неблагоприятным моментом развития массивного периворсинкового отложения фибрина в плаценте является риск развития его рецидива в 12–78% последующих беременностей [60].
Хотя окрашивание околоплодных вод и элементов плаценты меконием считается одним из признаков наличия гипоксии плода, обусловленной различными факторами, данные изменения плаценты классифицируются как отдельное состояние среди так называемых других поражений плаценты третьей группы. Соответственно, раз речь идет о гипоксии плода, то плаценты, окрашенные меконием, ожидаемо будут ассоциироваться с различными поражениями плода и новорожденного, включая головной мозг. В качестве подтверждения можно привести результаты ретроспективного изучения Redline R.W. et al. [61] плацент 40 доношенных младенцев, у которых был диагностирован церебральный паралич или другие непрогрессирующие двигательные расстройства. Явной заслугой авторов является проведенный анализ наблюдений в зависимости от степени выраженности мекониальных изменений, разделенных на 4 подгруппы в зависимости от локализации пигмента: только в амнионе, в амнионе и децидуальной оболочке, окрашивание пуповины и обусловленный меконием некроз крупных сосудов пуповины. Рассчитанные значения ОШ для развития церебрального паралича составили: 0,2 (95% ДИ: 0,1–0,6) в 1-й подгруппе, 1,2 (95% ДИ: 0,6–2,5) – во 2-й, 0,7 (95% ДИ: 0,3–2,0) – в 3-й и наиболее выраженные – 8,2 (95% ДИ: 2,3–29) – в 4-й подгруппе [61].
Другой опосредованный гипоксией признак – повышенное количество ядросодержащих эритроцитов в сосудах ворсин плаценты также чаще (28% против 9% в контрольной группе) выявлялся на гистологических препаратах плаценты у плодов с внутримозговыми кровоизлияниями [62]. При этом ОШ развития церебрального паралича у новорожденного при повышенном числе ядросодержащих эритроцитов в плодном компартменте сосудов плаценты составило 22,3 (95% ДИ: 11–46) [62]. Однако следует помнить, что наличие ядросодержащих эритроцитов в кровеносных сосудах плода считается нормальным на сроках гестации менее 3 месяцев.
Несомненно, аномалии формы и прикрепления плаценты, особенно выраженные формы ее врастания, считаются прямыми факторами риска развития перинатальных осложнений. Соответственно, заключения о двудольной, кольцевидной, валоподобной и диффузной плаценте должны насторожить акушеров и неонатологов о возможных нарушениях развития органов, включая головной мозг, плода. Беременные с патологическим прикреплением и врастанием плаценты (особенно при placenta increta и placenta percreta) нуждаются в динамическом наблюдении и родоразрешении в лечебных учреждениях третьего уровня. Гиперизвитые и гипоизвитые пуповины, а также краевое и оболочечное их прикрепление практически всегда вызывают развитие той или иной степени гипоксии плода, в ряде случае случаев – задержку роста и даже гибель плода [63].
Характеризуя роль патологии плаценты в развитии перинатальных осложнений, необходимо остановиться на проблеме множественных ее поражений. Указанные в современной международной классификации поражения плаценты достаточно часто сочетаются между собой, что может быть связано как с общей причиной их развития, так и с последующими осложнениями. Как ранее было указано, неполноценные имплантация и ремоделирование спиральных сосудов матки, приводящие к ишемии и гипоксии структур плаценты, считаются причиной преэклампсии, развитие которой сопровождается нарушением баланса продукции клетками плаценты проангиогенных и противоангиогенных факторов роста, в частности сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) и его рецепторов (VEGF-Rs), а также плацентарного (PlGF) и инсулиноподобных факторов роста (IGF) [64, 65]. При этом нарушения экспрессии факторов роста обусловлены как клетками материнского компартмента плаценты (синцитиотрофобластом), так и плодного компартмента (эндотелиоцитами) [66, 67] и сопровождается редукцией сосудистого русла ворсин, приводящей к гипоксии плода [68]. Дополнительными факторами патогенеза выступают активация окислительного стресса и каскада свертывания крови [69], усугубляющая нарушения развития и поражения плода.
Множественность поражений плаценты была отмечена и у беременных с SARS-CoV-2-инфекцией [70]. При этом в целом по Российской Федерации, согласно данным Росстата, в 2020 г. (в период пандемии COVID-19) по сравнению с 2019 г. на 5,6% повысилось значение показателя мертворождаемости, обусловленной патологией плаценты [71]. В отношении поражений головного у новорожденных показательно описание Benny et al. [72] двух наблюдений новорожденных от матерей, инфицированных SARS-CoV-2, у которых с 1-го дня жизни наблюдались судороги, признаки микроцефалии и проявления гипоксически-ишемической энцефалопатии. При морфологическом изучении плаценты выявлены признаки нарушения плодного кровообращения в виде тромбоза сосудов стволовых ворсин и высокой экспрессии воспалительных цитокинов, закономерно расцененных в качестве первоначальной причины поражений головного мозга [72].
Следовательно, неврологические расстройства и поражения головного мозга у новорожденных ассоциируются не только с каким-то одним видом поражения плаценты, но и с множественными ее изменениями. Более того, при морфологическом исследовании плацент в наблюдениях новорожденных с церебральным параличом Redline R.W. et al. [61] отмечено значительно более частое выявление двух и более видов повреждения, а также сильная прямая взаимосвязь между количеством поражений и развитием церебрального паралича. При этом значение ОШ для развития церебрального паралича было выше в наблюдениях плацент с относительно недавними и с давними поражениями (94,2, 95% ДИ: 11,9–747), чем в плацентах с множественными давними (хроническими) поражениями (22,9, 95% ДИ: 1,1–487) и недавними поражениями (43,8, 95% ДИ: 5,3–362) [61]. То есть развитие изменений плаценты приводит к цепочке последующих ее повреждений, которые вместе взятые являются уже причиной поражения головного мозга у плодов и новорожденных.
В этой связи, несмотря на то, что морфологическое исследование плаценты осуществляется только после родов, полученные при нем результаты имеют важное значение, в частности, для понимания патологического или непонятного состояния новорожденного. Более того, информация о выявленной патологии плаценты может быть крайне полезной для определения тактики лечения новорожденного, в том числе неврологических расстройств и поражений головного мозга. Знание же о возможном рецидиве развития патологии плаценты при последующей беременности должно быть использовано для его профилактики.
Заключение
Повреждения структур плаценты и нарушения ее функций могут явиться причиной нарушений развития плода и заболеваний новорожденного. Имеющиеся данные литературы указывают, что практически все выраженные изменения плаценты в виде расстройств кровообращения в материнском и плодном компартменте плаценты, инфекционно-воспалительных процессов и массивных отложений периворсинкового фибрина могут привести к неврологическим расстройствам и поражениям головного мозга новорожденного.
Знание выявленной при морфологическом исследовании патологии плаценты крайне необходимо акушерам и неонатологам для полноценной диагностики расстройств и заболеваний новорожденного, а также для определения тактики лечения.