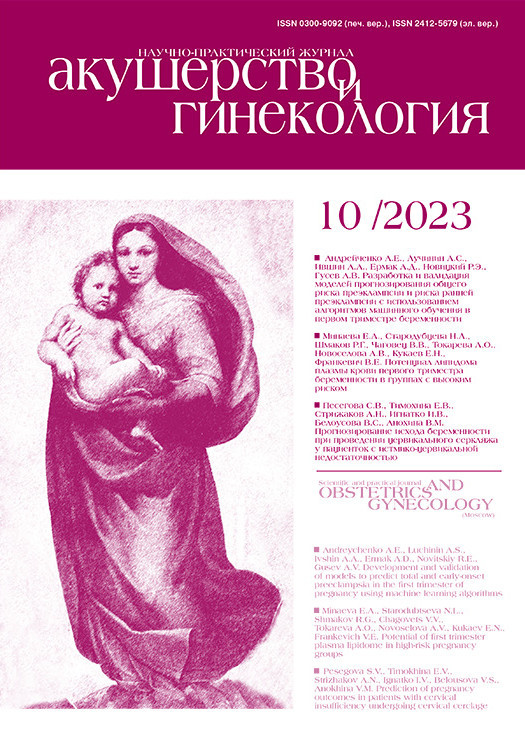Рак яичников является седьмым в мире по распространенности среди злокачественных новообразований у женщин и, по статистике, самым летальным из всех видов рака женских репродуктивных органов [1]. Заболевание часто диагностируется лишь на поздних стадиях за счет отсутствия специфической клинической картины. По статистике, в 70% и более случаев рак яичников обнаруживают лишь на III или IV стадии. Согласно последним исследованиям, выживаемость при раке яичников в течение 5 лет составляет 90%, после – 47,4% [2].
Наибольшая частота встречаемости злокачественных опухолей яичников отмечена среди белокожих женщин: на 100 000 здоровых приходится 11,3 больных. Девушки в возрасте до 30 лет заболевают редко, однако с возрастом риск увеличивается [2].
Больные раком яичников наиболее предрасположены к развитию тромботических событий, что часто ведет к летальному исходу, снижая общую выживаемость. Частота тромбозов, возникших до начала лечения, по данным исследований 2020 г., колеблется от 26,7 до 27,8%, что значительно выше, чем при опухолях женской репродуктивной системы другой локализации [3, 4].
Патофизиология синдрома Труссо
Тромбоз – одно из самых частых осложнений онкологических заболеваний. При опухолевом процессе отмечено значительное увеличение риска тромбообразования, нередко ведущего к повышению летальности. Данная закономерность, впервые описанная Арманом Труссо в 1865 г., получила широкое распространение. Теперь все значимые нарушения свертывающей системы крови при онкологических процессах принято называть синдромом Труссо [5].
Клиническая картина синдрома Труссо варьирует от венозной тромбоэмболии (ВТЭ) до синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома). Известно, что пациенты со злокачественными новообразованиями в 4–7 раз больше подвержены риску ВТЭ [6]. ВТЭ у онкологических больных может проявляться в виде таких осложнений, как тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии. Именно они являются второй по частоте причиной в статистике смертности онкологических больных.
Описанные в литературе случаи ВТЭ подтверждают, что тромбоз нередко является первым проявлением злокачественного процесса [7].
Патофизиология синдрома Труссо отражает различные механизмы, связанные с реакцией организма на новообразование [8]. Основные явления, на которых основывается тромбообразование при раке, представлены триадой Вирхова: стаз, повреждение сосудистой стенки, гиперкоагуляция. Стаз может быть следствием сдавления сосуда опухолевыми массами или инвазией опухоли непосредственно в стенку сосуда [8]. Также известно, что новообразование может продуцировать медиаторы, оказывающие повреждающее действие на стенку сосуда и способные изменять реологические свойства крови [8, 9].
Исследования показали, что злокачественный процесс провоцирует изменение активности свертывающей и фибринолитической систем, а также белков острой фазы, экспрессия которых растет на фоне воспаления [6]. Опухолевые клетки могут напрямую индуцировать свертывание крови путем продукции тканевого фактора, ракового прокоагулянта (цистеиновой эндопептидазы, способной напрямую активировать X фактор свертывания крови), воспалительных медиаторов и цитокинов – триггеров тромботических осложнений [6].
Злокачественная опухоль способна выделять различные типы цитокинов, включая интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли-α и фактор роста эндотелия сосудов, которые могут индуцировать гиперпродукцию тканевого фактора эндотелиальными клетками сосудов, подавлять экспрессию тромбомодулина, продуцировать ингибитор активатора плазминогена-1 и повышать экспрессию молекул клеточной адгезии.
Также немаловажным процессом в патофизиологии опухолевого роста является ангиогенез. Фактор роста эндотелия сосудов и ангиопоэтины вместе с рецепторами для них (Flt-1 для фактора роста эндотелия сосудов и Tie-2 для ангиопоэтина) являются наиболее мощными проангиогенными факторами и обеспечивают метастазирование и инвазивность новообразования.
Известно, что клетки опухоли, произошедшей из эпителиальной ткани, особенно сильно экспрессируют тканевой фактор. Соединяясь с VII фактором свертывания, тканевой фактор образует комплекс, активирующий Ха фактор и тромбин, которые, в свою очередь, индуцируют внутрисосудистое свертывание [10, 11].
Риск ВТЭ варьируется в зависимости от локализации и стадии опухолевого процесса, а также от наличия метастазов, так как все эти параметры могут оказывать влияние на реологию крови [6]. Известно, что тромбоз встречается в 5,9 раза чаще у пациентов с раком IV стадии, а вероятность рецидивов ВТЭ увеличивается, если злокачественное новообразование имеет тенденцию к распространению [12].
Венозная тромбоэмболия и рак яичников
Многие исследования подтверждают: злокачественные опухоли женской репродуктивной системы ассоциированы с наиболее высоким риском ВТЭ (15,9%) среди всех солидных опухолей и по частоте возникновения тромбозов уступают лишь злокачественным новообразованиям желудочно-кишечного тракта (10,4–18,9%) [12, 13].
Одной из самых опасных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы считается рак яичников, так как патологический процесс данной локализации в наибольшей степени провоцирует повышение риска тромбообразования и, как следствие, летального исхода [6]. Научные работы показали прямую зависимость между степенью распространенности данной опухоли и частотой ВТЭ: чем выше стадия рака яичника по FIGO (the International Federation of Gynecology and Obstetrics), тем выше вероятность тромбоза у пациенток [14]. Пятилетняя выживаемость при раке яичника первых стадий гарантируется в 90% случаев, однако на последних стадиях этот показатель снижается вдвое [11, 14]. Частота ВТЭ до начала терапии при гинекологических опухолях составила 9,9% для эндометриоидного рака, 4,8% для рака шейки матки и 26,7% для рака яичника [4]. Есть предположение, что повышенный риск тромбоза при раке яичников связан не с первичной локализацией опухоли, а с тем, как клетки конкретной опухоли способны изменять свойства крови [4].
При раке яичника тромбопоэтин экспрессируется на гораздо более высоком уровне, чем при злокачественных опухолях из эпителия другой локализации. Создавая модель рака яичников на мышах, ученые выяснили, что опухолевые клетки повышают выработку тромбопоэтина вследствие продукции интерлейкина-6, индуцируя таким образом тромбоцитоз и еще больше увеличивая риск ВТЭ [6, 15]. Пациенты с изначально высоким уровнем тромбоцитов в наибольшей степени предрасположены к ВТЭ при развитии опухолевого процесса [16].
Лабораторные маркеры тромбоэмболии при раке яичников
У пациентов со злокачественными новообразованиями яичников на последних стадиях обнаруживаются гиперкоагуляция, увеличение количества тромбоцитов и сверхактивация фибринолиза. О последней можно судить по уровню D-димера – продукта деградации фибрина [17, 18]. При раке яичника большое значение придается ранней диагностике заболевания, так как риск смертельного исхода неуклонно увеличивается в зависимости от стадии патологического процесса. Одним из наиболее информативных прогностических маркеров является именно D-димер. Чем выше его уровень, тем выше вероятность возникновения ВТЭ [19].
D-димер играет существенную роль в поддержании реологии крови, нормальной проницаемости сосудов, восстановлении поврежденных тканей [17]. Повышение его уровня свидетельствует об активации фибринолиза, что делает возможным его использование для отслеживания активности плазмина, диагностики гиперкоагуляции, в качестве предиктора тромботических событий и прогрессии опухоли [17, 20]. Отмечено, что одновременно с увеличением уровня D-димера также происходит увеличение количества тромбоцитов, протромбинового времени, уровней лейкоцитов и ракового эмбрионального антигена 125 [17].
Злокачественные эпителиальные опухоли яичников последних стадий характеризуются гораздо большим повышением уровня D-димера, нежели доброкачественные новообразования или злокачественные опухоли более ранних стадий [17, 19].
Высокий уровень D-димера – общий показатель для всех больных раком яичников [19]. Komatsu H. et al. в работе 2020 г. изучали взаимосвязь увеличения уровня D-димера и возникновения тромбоза глубоких вен у больных гинекологическим раком. Перед оперативным вмешательством у каждой из 205 пациенток определяли уровень D-димера, проводили ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и компьютерную томографию (от шеи до области таза) для выделения группы «тромбоз-позитивных» женщин, впоследствии получавших антикоагулянтную терапию периоперационно. Исходные уровни D-димера у больных составили: 1,7 мкг/мл – при раке яичников; 0,3 мкг/мл – раке шейки матки; 0,4 мкг/мл – раке эндометрия; в качестве преоперационного значения «отсечки» установлен уровень D-димера 1,55 мкг/мл. В этот период тромботические осложнения развились у 35,2% больных раком яичников, у 9,2% – раком эндометрия, у 3,2% – раком шейки матки [21]. Тромбоз возникал тем чаще, чем выше стадия опухолевого процесса [21, 22]. Послеоперационный уровень D-димера также был зафиксирован: 1,5 мкг/мл – для рака яичников, 1,2 мкг/мл – для рака шейки матки, 0,95 мкг/мл – для рака эндометрия. Значение «отсечки» – 1,95 мкг/мл. Тромботические осложнения после оперативного вмешательства отмечались у 8,8% больных раком яичников, у 6,6% больных раком эндометрия и у 4,9% больных раком шейки матки. Таким образом, исследователи посчитали частоту до- и послеоперационных тромбозов у больных раком яичников примерно одинаковой. Можно предположить, что действия хирургов не повлияли на возникновение осложнений, которые, возможно, были спровоцированы особенностью строения и физиологии данной опухоли [21].
Zhou Q. et al. в 2020 г. также установили, что D-димер полезен для скрининга как пре-, так и постоперационной тромбоэмболии. ВТЭ перед операцией возникла у пациенток со средним уровнем D-димера 7,5 мкг/мл и более (в группе пациенток без тромботических осложнений уровень D-димера перед операцией составил 2,5±2,9 мкг/мл). В послеоперационном периоде тромбозы наблюдались у пациенток с преоперационным уровнем D-димера >3,3 мкг/мл и послеоперационным уровнем >6,2 мкг/мл. В ходе исследования были установлены значения, говорящие о скором развитии тромботических осложнений: если уровень D-димера превышает 4,215 мкг/мл до операции и 4,71 мкг/мл после операции – значения «отсечки» [23].
Ebina Y. et al., проведя анализ на ту же самую тему в 2018 г., установили в качестве «отсечки» значение 10,9 мкг/мл [24]. Таким образом, вследствие наличия существенной разницы между показателями уровня D-димера и значениями «отсечки» необходимо провести несколько более масштабных исследований с целью установления международных стандартов диагностики.
В 2021 г. Tamura R. et al. была предложена молекулярная классификация рака яичников, подразделяющая опухоли на «холодные» и «горячие»: при обоих подтипах до начала лечения отмечается высокий уровень D-димера, однако разница наблюдается в экспрессии новообразованиями воспалительных генов (GEP – T-Cell-Inflamed Gene-Expression Profile) и способности подавлять иммунитет человека. Авторы утверждают, что при должной доработке классификация может обосновать клинико-патологическое и биологическое значение гиперкоагуляции при раке яичников и позволит предсказать ответ пациента на проводимую терапию и прогноз заболевания [25].
Таким образом, в настоящее время уровень D-димера остается важным биомаркером предсказания ВТЭ и значимым предиктором выживаемости онкологических больных, независимо от тромбоэмболического статуса пациентов [25–27].
Факторы риска возникновения тромбоэмболии при раке яичников
Среди факторов, способствующих развитию тромбоза при раке яичников, были отмечены следующие.
Возраст. Статистика, полученная в результате различных исследований, показала, что у пациенток старше 60 лет наиболее часто наблюдается развитие тромботических осложнений. В 2013 г. Wu X. et al., анализируя выборку китаянок, больных раком яичников, определили, что частота ВТЭ была на 3,9% выше у женщин старше 59 лет [19]. Более новые работы Ebina Y. et al. (2018) [24] и Tasaka N. et al. (2020) [4] отмечают увеличение частоты развития ВТЭ на 15,1% (у пациентов старше 63 лет) и 13,6% (у пациентов старше 60 лет) соответственно. Таким образом, за 5–7 лет встречаемость ВТЭ у женщин старше 60 лет возросла на 10% и более.
Артериальная гипертензия. Роль артериальной гипертензии в развитии ВТЭ у больных раком яичников все еще обсуждается. В исследовании Wu X. et al. тромботические осложнения развились у 9 из 110 пациенток, не имеющих хронических заболеваний, что составило 8,2%. У больных артериальной гипертензией тромбоз обнаруживался в 2 из 30 случаев (6,7%) [17].
Индекс массы тела (ИМТ). В 2020 г. Tasaka N. et al. зафиксировали 26,7% случаев ВТЭ у женщин с ИМТ<25 кг/м2, 28,3% – у женщин с ИМТ≥25 кг/м2 [4]. В 2018 г. Ebina Y. et al. обнаружили 19,2% случаев ВТЭ у женщин с ИМТ≥21,7 кг/м2 и 31,8% случаев ВТЭ у женщин с ИМТ≥21,7 кг/м2 [24]. Такое различие показателей может быть основой предположений о том, что со временем сократилась разница между частотой ВТЭ у женщин с ИМТ выше и ниже нормальных значений, однако требуются дополнительные исследования.
Размер (диаметр) новообразования. 24,8% случаев ВТЭ наблюдалось при опухоли размером <100 мм, 29,0% – при опухоли размером ≥100 мм, по данным Tasaka N. et al. (2020) [4]. Ebina Y. et al. (2018) предоставили иную статистику: 13,3% – при опухолях диаметром <8 см (80 мм) и 26,3% – при опухолях диаметром ≥8 см (80 мм) [24]. Аналогично предположениям о том, что ИМТ выше нормы является фактором риска возникновения тромбозов у больных со злокачественными образованиями яичников, значение диаметра опухоли также нуждается в подтверждении.
Асцит. Наличие у пациентки массивного асцита также свидетельствует об увеличении риска тромботических осложнений. С одной стороны, асцитическая жидкость сдавливает тазовые вены, нарушая отток крови [11]. С другой, повышенное содержание в асцитической жидкости экстрацеллюлярных везикул, экспрессирующих тканевой фактор, способствует активации системы свертывания крови [28, 29].
Важной при раке яичника также является гистологическая характеристика опухоли. Отмечено, что наиболее часто ВТЭ встречалась при светлоклеточной карциноме [12, 30].
Для оценки риска ВТЭ у онкологических больных была разработана шкала Khorana, включающая в себя следующие параметры: локализация новообразования, количество тромбоцитов до химиотерапии ≥350×109/л, уровень гемоглобина <10 г/дл, количество лейкоцитов до химиотерапии >11×109/л, ИМТ≥35 кг/м². В ряде работ было отмечено, что шкала оказалась прогностически неэффективна в отношении больных раком яичника, так как не охватывала все факторы, способные повлиять на развитие тромбоза, в том числе медикаментозное лечение [31, 32].
Роль применения лекарственных средств в развитии тромботических событий у больных раком яичников
Существуют публикации, в которых обсуждается влияние медикаментозной терапии новообразования и профилактики связанных с ним осложнений на индукцию тромбозов. С хирургическим лечением также связаны факторы, повышающие риск ВТЭ (пролонгированная операция, длительный постельный режим после хирургического вмешательства, интра- и послеоперационные осложнения) [11]. Однако, несмотря на все предрасполагающие условия, частота ВТЭ в периоперационном периоде снижается за счет эффективности проводимой тромбопрофилактики.
Сообщается, что большинство тромботических событий происходит при первом обращении по поводу рака яичников (на момент постановки диагноза) и во время введения химиотерапевтических препаратов [31, 33].
Клинически подтверждено существенное влияние как неоадъювантной, так и адъювантной химиотерапии на возникновение тромбозов у пациенток с раком яичника; причем более значимая статистика наблюдалась при применении первой [32]. По данным одного из исследований, отслеживающих появление ВТЭ в период от диагностики заболевания до окончания адъювантной химиотерапии, из 63 пациентов, перенесших ВТЭ, у 16 тромбоз развился именно во время применения неоадъювантной химиотерапии [34].
Также рандомизированные клинические исследования подтвердили предположения о том, что прием противоопухолевых средств, в частности бевацизумаба — ингибитора фактора роста эндотелия сосудов, влияющего на ангиогенез новообразования, несмотря на клинически доказанную эффективность и повышение уровня выживаемости больных раком яичника, в сочетании с химиотерапией может увеличивать риск возникновения тромбозов у онкологических больных [25, 35, 36].
Именно поэтому при применении химиотерапии и противоопухолевых средств предусматриваются обязательный контроль показателей крови пациентки и рассмотрение вопроса о медикаментозной тромбопрофилактике [31, 34].
Одним из препаратов, рутинно применяемых для профилактики кровотечений в периоперационном периоде, является транексамовая кислота.
Транексамовая кислота – антифибринолитическое средство, часто использующееся в гинекологической хирургии. Являясь синтетическим дериватом аминокислоты лизина, вещество обратимо блокирует сайт связывания лизина с фибриногеном и фибрином, тем самым ингибируя тканевый активатор плазминогена, предотвращая образование плазмина и, как следствие, фибринолиз [37].
Эффективность транексамовой кислоты при применении у пациенток со злокачественными новообразованиями яичников была подтверждена рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием Lundin E.S. et al. (2014): однократное введение препарата в дозировке 15 мг/кг непосредственно перед операцией по поводу рака яичника в значительной степени снижает периоперационную кровопотерю (520 мл в группе транексамовой кислоты и 730 мл в группе плацебо) и объем переливаемой крови (переливание эритроцитарной массы в пери- и послеоперационном периоде проводилось 15 женщинам в группе транексамовой кислоты (30%) и 22 женщинам в группе плацебо (44%)) [38]. Данные этой работы были использованы Sampaio A. et al. при проведении литературного обзора и метаанализа на тему безопасности и эффективности антифибринолитических препаратов в онкологической хирургии. Так, объем послеоперационной кровопотери (24 ч) при раке матки был 270±40 мл у пациенток, получавших 10 мг/кг транексамовой кислоты перед операцией, и 390±35 мл у пациенток группы плацебо; интраоперационная кровопотеря при раке простаты (пациенты получали 500 мг препарата накануне операции) составила 1103±500,8 мл в группе транексамовой кислоты и 1135±685,5 в группе плацебо; при злокачественных новообразованиях головы и шеи – 750 мл и 780 мл соответственно (перед оперативным вмешательством получено 10 мг/кг препарата); при злокачественных новообразованиях печени – 300 мл и 600 мл соответственно (накануне операции – 500 мг транексамовой кислоты) [37]. Полученная статистика позволяет предположить эффективность использования транексамовой кислоты не только при гинекологических операциях, но и в онкологии в целом.
В 2019 г. Lemoine A. et al., наблюдая за эффективностью различных препаратов, применяемых в периоперационном периоде у пациенток с эпителиальным раком яичников, рекомендовали производить однократную инфузию транексамовой кислоты пациенткам, перенесшим операцию, с целью снижения уровня кровопотери [39].
Необходимо оценить не только эффективность, но и безопасность применения антифибринолитиков, поскольку они блокируют разрушение фибрина, предотвращая связывание плазминогена с тканевым активатором, тем самым способствуя образованию сгустка [37].
Несколько авторов, рассматривавших использование транексамовой кислоты в совершенно разных отраслях медицины, отмечали как эффективное снижение кровопотери, так и отсутствие повышенного риска тромбообразования.
В метаанализах 2021 г. Murao S. et al. установили безопасность применения препарата при хирургической и травматической кровопотере [40], а Taeuber I. et al., проанализировав 216 исследований (125 550 пациентов с различными патологическими состояниями), наблюдали тромбозы у 2,1% людей из группы транексамовой кислоты и у 2% – группы плацебо. Причем среди гинекологических больных осложнения возникли у 35 из 12 356 человек в группе препарата и у 41 из 12 286 человек в группе плацебо [41].
В ходе литературного обзора 2021 г. Relke N. et al., анализируя осложнения, возникшие у пациентов с кровотечениями, установили, что в условиях отсутствия отягощенного анамнеза (тромботические явления) нет оснований избегать применения транексамовой кислоты [42].
В 2022 г. Devereaux P.J. et al. провели рандомизированное исследование среди пациентов, перенесших некардиальную хирургию. Больные были разделены на 2 группы: получавшие транексамовую кислоту в дозе 1 г (4757 человек) и плацебо (4778 человек) в начале и в конце оперативного вмешательства. После операции 64,2% пациентов в группе транексамовой кислоты и 63,6% пациентов в группе плацебо были назначены препараты для профилактики ВТЭ. Безопасность оценивали по совокупности сердечно-сосудистых исходов в течение первых 30 дней после операции (повреждение миокарда после некардиологической операции, ишемический инсульт, тромбоз периферических артерий, симптоматическая ВТЭ), которые возникли у 14,2% пациентов, принимавших исследуемый препарат, и у 13,9% больных, получавших плацебо. При этом ВТЭ была отмечена у 0,7% в группе транексамовой кислоты и у 0,6% в группе плацебо. Эта информация дала основание предполагать, что транексамовая кислота безопасна для применения с позиции сердечно-сосудистых осложнений [43].
По результатам обзорной статьи Chornenki N.L.J. et al. (2019), включавшей 22 исследования и 49 538 пациентов с кровотечениями нехирургического генеза, частота тромботических событий была статистически незначима [44], а в работах, отмечавших тромбозы у пациентов, связь «препарат-тромбоз» подтверждена не была, так как частота осложнений у больных, получавших транексамовую кислоту и получавших плацебо, была одинакова. Стоит отметить, что она также не зависела от способа введения лекарственного средства (внутривенно/перорально/комбинированно) [41, 44]. Авторы акцентировали внимание на том, что пациенты со злокачественными образованиями не были подвержены более высокому тромботическому риску, связанному с приемом исследуемого препарата [44].
В рассмотренной выше работе Sampaio A. на тему эффективности транексамовой кислоты сказано еще и о безопасности данного препарата: артериальные и венозные тромбозы либо не возникали ни в одной из групп онкологических больных (рак матки, злокачественные новообразования головы и шеи, печени), либо чаще наблюдались в группе плацебо (рак простаты: 2 – среди получавших транексамовую кислоту, 5 – среди получавших плацебо) [37].
Безопасность и эффективность применения транексамовой кислоты в рамках многих терапевтических и хирургических специальностей не вызывает практически никаких сомнений – препарат достойно показал себя в течение многолетнего применения и в ходе множества научных работ в различных медицинских областях. Тем не менее предмет использования транексамовой кислоты в гинекологии, и в частности в онкогинекологии, исследован недостаточно, характеризуется неоднозначностью заключений и отсутствием четких рекомендаций [45]. Именно по этой причине важно аккумулировать результаты наиболее релевантных крупных клинических исследований, чтобы в будущем сформировать алгоритмы, которые будут учитывать воздействие данного препарата на организм человека и на которые можно будет положиться практикующим гинекологам и онкологам в ходе рабочей деятельности.
При проведении литературного обзора были обнаружены научные работы, авторы которых предполагали, что применение транексамовой кислоты у гинекологических больных при меноррагии способно индуцировать тромбоэмболические осложнения.
В зависимости от региона использования дозирование транексамовой кислоты для терапии меноррагии может быть различным. Европейские ученые в качестве рекомендованной дозы установили 1 г 3 раза в сутки в течение 4 дней, при этом максимальная суточная доза соответствует 4 г/сут. В Соединенных Штатах Америки придерживаются значения 1,3 г 3 раза в сутки на протяжении 5 дней [46]. По опыту специалистов Дании, наиболее часто транексамовая кислота назначается в количестве 1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, поэтому большинство пациенток получают рецепт на 15 г лекарственного препарата [47, 48]. Стоит обратить внимание, что врачи по всему миру считают обязательным рассмотрение вопроса о коррекции дозировок транексамовой кислоты у больных с тромботическими событиями в анамнезе [46].
Meaidi A. et al. (2021) не подтвердили небезопасность использования транексамовой кислоты у пациенток с меноррагией [48]. Авторы выявили 8 подтвержденных случаев тромбоза вен у 72 663 женщин (исключая больных с повышенным риском ВТЭ), принимающих транексамовую кислоту перорально. Было отмечено, что тромботические осложнения у здоровых пациенток в возрасте 15–49 лет, не имеющих предрасположенности, являются очень редким побочным эффектом при кратковременном применении транексамовой кислоты. Подобные результаты сопоставимы с риском при применении комбинированных оральных контрацептивов [48, 49].
Описанный в 2012 г. клинический случай доказывает важность учета всех факторов риска тромбообразования перед назначением антифибринолитических средств. 38-летняя женщина с клинической картиной тромбоза глубоких вен левой нижней конечности обратилась к врачу общей практики. В ходе расспроса было выяснено, что первые симптомы появились на 6-й день приема транексамовой кислоты, назначенной врачом-гинекологом для лечения меноррагии. Из отягощающих данных: тромбоз глубоких вен правой ноги 10 лет назад, высокий ИМТ, прием антипсихотических препаратов [50].
В гинекологической хирургии транексамовая кислота используется так же часто, как и в амбулаторной гинекологической практике. По данным обзора литературы, проведенного Zakhari A. et al. в 2020 г., гинекологическим обществом рекомендовано профилактическое применение данного препарата при миомэктомии, гистерэктомии, конизации шейки матки и циторедуктивных операциях по поводу рака шейки матки, рака яичников. Чаще всего транексамовую кислоту вводят внутривенно непосредственно перед операцией в дозировке 1000 мг или 10–15 мг/кг [45]. Авторы обзорной статьи соглашаются с тем, что, учитывая особенности фармакодинамики препарата, при его использовании следовало бы ожидать развития тромботических событий. Однако метаанализы прошедшего десятилетия утверждают обратное: при исследовании механизма действия аналогов лизина в тазовой хирургии, а также изучении побочных эффектов транексамовой кислоты при хирургических вмешательствах на матке (кесарево сечение) повышения риска тромбоза выявлено не было. Таким образом, учеными был получен вывод о безопасности и эффективности применения транексамовой кислоты в гинекологической хирургии [45].
Для получения комплексного результата в ходе литературного обзора были произведены анализ и суммация данных двух наиболее свежих и показательных клинических исследований 2023 г. (Shim H. et al. [22], Yang X. et al. [51]), проводивших сравнение до- и послеоперационного состава крови пациенток с раком яичника и оценивавших влияние полученных показателей на развитие тромботических событий.
В первую очередь рассмотрим научную работу, авторы которой не оценивали влияния каких-либо лекарственных средств на индукцию тромботических событий в данной когорте больных, а наоборот, обращали внимание на изолированное изменение показателей крови. Shim H. et al. собирали 2 образца крови пациенток, которым предстояла циторедуктивная операция по поводу рака яичников: утром накануне хирургического вмешательства и утром первого послеоперационного дня. Развитие тромбоза можно было наблюдать у 21 (15,8%) из 133 пациенток, хотя каждая из них после операции получала антикоагулянты. Оценка результатов анализов выявила предоперационное повышение уровня гомоцистеина (6,36 ммоль/л – при отсутствии тромбоза; 7,82 ммоль/л – при тромбозе) и интерлейкина-6 (3,68 пг/мл – при отсутствии тромбоза; 6,46 пг/мл – при тромбозе) и послеоперационное снижение уровня плазминогена (78,5% – при отсутствии тромбоза; 69,0% – при тромбозе) и увеличение активированного частичного тромбопластинового времени) (45,8 с – при отсутствии тромбоза; 50 с – при тромбозе) у больных с тромботическими осложнениями. Исследователи предложили объяснение данных процессов: повышение уровня гомоцистеина может способствовать развитию тромботических событий, усиливая экспрессию молекул адгезии, цитокинов и тканевого фактора, но не может самостоятельно спровоцировать тромбоз. Тем не менее в совокупности с другими обнаруженными факторами возникновение осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы вполне вероятно [22].
В следующем клиническом исследовании Yang X. et al. разделили 150 больных на 3 равные группы: пациенты, получающие высокие дозы транексамовой кислоты (20 мг/кг в течение 20 минут после индукции анестетика, затем – 5 мг/кг/ч в течение всей операции), низкие дозы транексамовой кислоты (10 мг/кг в течение 20 минут после индукции анестетика, затем – 1 мг/кг/ч в течение всей операции) и плацебо (физиологический раствор NaCl 0,9%). Наименьший объем интраоперационной кровопотери имел место в группе высоких дозировок – 625,3 мл; в группе низких доз – 992,5 мл, в контрольной группе – 1015,5 мл. Аналогично объем общей кровопотери оказался наиболее низок в группе высоких дозировок – 748,9 мл; в группе низких доз – 1025,0 мл, в контрольной группе – 1700,7 мл. Оценка уровня гемоглобина и гематокрита производилась 5 раз: перед операцией, непосредственно после операции и в 1, 7, 30-й дни после хирургического вмешательства. Оценка состояния свертывающей системы крови производилась в те же периоды времени, за исключением проверки непосредственно после операции. Периоперационные результаты не отразили каких-либо значимых изменений между пре- и постоперационными показателями крови больных (гемоглобин, гематокрит, показатели свертывающей системы крови). Касательно тромботических осложнений, ультразвуковые исследования сосудов нижних конечностей 7-го и 30-го послеоперационных дней показали, что разницы в заключениях среди трех исследуемых групп обнаружено не было. За период исследования постоперационный венозный тромбоз развился у 2% пациентов группы плацебо и 4% пациентов группы низких доз. Тромбоз среди больных, получавших высокие дозировки транексамовой кислоты, не наблюдался. Авторы исследования выдвинули предположение, что высокие дозировки транексамовой кислоты эффективно снижают периоперационную кровопотерю и не вызывают осложнений при их применении [51].
По результатам более ранних научных работ, посвященных онкологическим заболеваниям, тромботические события в течение 5 недель после операции у больных раком яичника в группе транексамовой кислоты (2 (4%) пациента) возникали реже, чем в группе плацебо (5 (10%) человек) [38]. Данный факт позволяет выдвинуть предположение, что прием транексамовой кислоты и развитие ВТЭ не связаны – препарат безопасен для применения в онкогинекологии [38, 52]. В то же время единичные научные работы по данной теме не дают полного представления о рисках возникновения побочных эффектов, оказывающих отрицательное влияние на дальнейшую жизнь больного. Отсутствие большого количества авторитетных исследований, изучающих безопасность использования гемостатических лекарственных средств с антифибринолитическим механизмом действия, ограничивает врачей с точки зрения диагностики осложнений у больных раком яичников. Таким образом, необходимо провести дальнейшие рандомизированные плацебо-контролируемые исследования для более углубленного изучения данной темы. До получения результатов исследований целесообразно осторожное применение транексамовой кислоты и других антифибринолитических препаратов с целью снижения периоперационной кровопотери с обязательной профилактикой тромбообразования в виде назначения низкомолекулярных гепаринов [53].
Заключение
Использование транексамовой кислоты у пациенток с раком яичников с целью снижения кровопотери в периоперационном периоде, по мнению авторов большинства из включенных в данный литературный обзор исследований, доказало не только свою эффективность, но и безопасность. Однако существующие в настоящее время выводы, касающиеся обсуждаемой темы, можно расценивать лишь как предположения, так как их уровень доказательности недостаточно высок, чтобы сформировать достоверное заключение. Требуется проведение дополнительных клинических исследований, направленных на углубленное изучение вопроса о побочных эффектах, возникающих после применения гемостатических лекарственных средств с антифибринолитическим эффектом. Учитывая особенности злокачественных новообразований подобной локализации, негативное влияние химиотерапии на реологические свойства крови, а также малый объем доказательной базы, свидетельствующей в пользу безопасности применения антифибринолитических средств, стоит рассмотреть вопрос об обязательной тромбопрофилактике у данной категории больных.