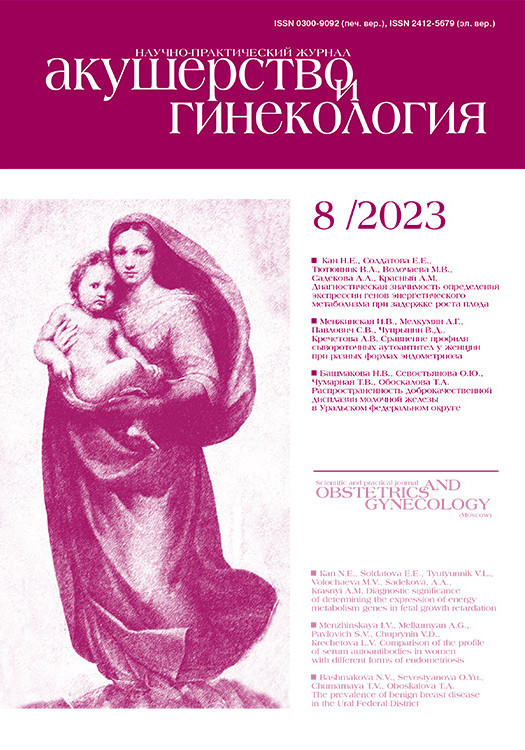Врачебная ошибка: кто отвечает, за что отвечает, как отвечает?
По оценкам экспертов, смертность от врачебных ошибок только в США ежегодно на рубеже прошедшего и текущего столетий составляла до 98 000 человек. Это больше смертности, обусловленной не менее резонансными причинами: дорожно-транспортными происшествиями, раком молочной железы или СПИДом [1]. За 20 лет, прошедших с момента публикации этих данных, ситуация существенно не изменилась. Предотвратимый медицинский ущерб сейчас ставится на 14-е место в структуре причин смертности и тяжелой инвалидности (сопоставимо с ущербом от малярии) [2].
Акушерство относится к числу самых рискованных с точки зрения ответственности врача сфер медицины [3]. Очень просто и доступно этот феномен объяснил академик Г.Т. Сухих: «Во многих видах хирургии специалист потенциально может потерять одну жизнь, а в акушерстве – две жизни одновременно: ребенка и его мамы. Поэтому акушерство – удивительная специальность, которая объединяет целую линейку субспециальностей» [4].
Господствующий в зарубежной организации здравоохранения подход, при котором любое нарушение интересов (пациента, общества) в медицинской сфере влечет за собой принятие решения о привлечении к гражданской и (или) уголовной ответственности [5], привел к последствиям, имеющим негативное значение для самих пациентов: 1) рост числа обращений в различные надзорные и контролирующие органы, усиливаемый простотой и доступностью механизма подачи таких обращений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий [6]; 2) «потребительский экстремизм» (стремление к незаконному обогащению за счет медицинских организаций при отсутствии реального вреда здоровью или вины врача) породил во всем мире феномен defensive medicine («оборонительной медицины») – ответную реакцию со стороны медицинского сообщества в виде чрезмерного внимания к оформлению документации, нежелания вести пациентов с прогностически неблагоприятным исходом, отказа от оправданного риска в пользу наиболее безопасного варианта лечения с точки зрения наступления юридической ответственности [7–9]; 3) усиление кадрового дефицита в клинической медицине, обусловленное, в том числе, решениями о дисквалификации врачей, признанных виновными в неблагоприятном исходе лечения [10]; сокращение бюджета медицинской организации, обусловленное применением в отношении нее финансовых санкций, само по себе создает серьезную угрозу безопасности пациентов [11].
Это явление в разной степени затрагивает все страны: самый низкий рост числа претензий, исков зафиксирован в Великобритании, Скандинавии, странах Балтии и Восточной Европы (>50%), а в лидерах – Германия, Италия, страны Пиренейского полуострова и Средиземноморья (>200–500%), за исключением Франции [12].
Увеличение предотвратимого риска неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи может быть результатом внедрения сомнительных моделей ее организации, в том числе в акушерстве и гинекологии. Так, в Канаде в 1980-е гг. на фоне дефицита врачей – «узких» специалистов было принято решение ограничить практику акушеров-гинекологов консультациями. Родовспоможение на госпитальном этапе было поручено врачам общей практики, которые, по данным, полученным в провинции Онтарио, приняли более 90% неосложненных и около 60% осложненных родов [13]. Кроме того, канадское законодательство допускает родовспоможение акушеркой, без врача. Современные ретроспективные исследования, которые бы оценивали результаты такой практики в сравнении, не столь значительны, как хотелось бы, и посвящены они преимущественно экономическим аспектам использования каждого из вариантов. Однако даже ограниченные данные по исходам 24 662 беременностей в период с 2013 по 2017 гг. свидетельствуют о том, что акушерами-гинекологами принято только 46,5% родов, остальные приходятся на врачей общей практики (50,4%) и акушерок, без врача (3,1%). Врачами общей практики выполняются как родоразрешение через естественные родовые пути, так и операции кесарева сечения; частота оперативных родов у врачей акушеров-гинекологов в 2 раза выше, чем у врачей общей практики (RR (95% CI) 2,20 (1,78–2,75)). При этом в исходах родов, принятых врачами общей практики, более высокая, по сравнению с акушерами-гинекологами доля новорожденных c оценкой по шкале Апгар ≤6 (1,72% против 1,66%) и выше частота послеродовых кровотечений (8,68% против 6,01%) [14]. Другое, параллельно проведенное исследование показало увеличение числа жалоб в канадские регулирующие органы на практикующих врачей за 10-летний период с 5,4 на 1000 жителей в 2008 г. до 7,9 на 1000 жителей в 2017 г. (p=0,003) [15]. Что касается кадровой ситуации, то она в результате внедрения специфических практик организации медицинской помощи ухудшилась: до 70% работающих акушеров-гинекологов предпенсионного и пенсионного возраста, большой отток молодых специалистов в США, дефицит врачей в отдаленных районах и малонаселенных местностях [16].
Анализ 232 судебных решений, вынесенных в 2006–2010 гг. судами Германии, показал, что больше всего заявлений о халатности подавалось в отношении травматологов и ортопедов (30,2%; n=70), стоматологов (16,4%; n=38), хирургов (12,1%; n=28) и акушеров-гинекологов (7,8%; n=18); на остальные медицинские дисциплины приходится 38,8% заявлений; n=90. Подавляющее большинство (65,6%, n=152) дел завершилось мировым соглашением. 18,9% (n=44) дел окончены отзывом заявлений, 11,2% (n=26) – отказом и только 2,6 % (n=6) – уголовным приговором [17].
Иная картина наблюдалась в 2011–2013 гг. в Китае. Здесь по 726 проанализированным делам, возбужденным по заявлениям о врачебной халатности, обвинительный вердикт вынесен по 607 делам (83,7%). Дисциплиной, чаще всего связанной с претензиями о халатности, стало акушерство и гинекология; наиболее частым исходом стали материнская смерть и неонатальная гибель плода. Средний размер компенсации составил 163 тыс. юаней [18].
В Италии заявления об уголовном преследовании в отношении акушеров-гинекологов составили 64% (n=465) из 727 проанализированных сообщений за 2000–2014 гг. При этом обвинительные приговоры были вынесены только по 24 (3%) случаям привлечения врачей к уголовной ответственности. Назначенные наказания варьировались от уплаты штрафа и судебных издержек до лишения свободы (минимум – 2 месяца, максимум – 9 месяцев) [19].
Дефекты медицинской помощи становятся объектом внимания правоохранительных органов по разным критериям. Иногда в действиях медицинского персонала усматривается умысел, и тогда применяются, пожалуй, самые суровые нормы уголовного закона: ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) или ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному) – норма, порождающая бесконечный спор: должен или не должен врач акушер-гинеколог, оказавшись на борту самолета, оказывать экстренную помощь пассажиру, например, с выраженной неврологической симптоматикой. Неосторожные преступления (в частности, причинение смерти, тяжкого вреда здоровью по неосторожности – ст. ст. 109, 118 УК РФ, халатность – ст. 293 УК РФ) встречаются чаще, но обычно имеют место врачебные (медицинские) ошибки, которые влекут только гражданскую ответственность [20], или несчастные случаи (казусы, не влекущие никакой ответственности специалистов в силу отсутствия взаимосвязи между исходом и действиями врача) [21].
Однако, несмотря на внешнюю простоту приведенной градации, на практике казус может быть расценен как умысел, а очевидная халатность – как несчастный случай. В зарубежной литературе предложены 5 критериев, по которым врачебная ошибка может быть расценена, как преступная неосторожность и повлечь уголовное преследование медицинского работника: 1) сознательный отказ от надзора, означающий, что субъект осознанно превышает свой фактический уровень компетенции; если же надзор осуществляется, но халатно, то ответственность несут те, кто допустил риск неопытного врача; 2) осознанное неустранение выявленного недостатка в знаниях, игнорирование достижений медицины – «преступное невежество», причинившее вред другим лицам; 3) отсутствие необходимых навыков и продолжение медицинского вмешательства, несмотря на осознание такого отсутствия, равно как и неосторожность, допущенная вследствие усталости, рассеянности; 4) «безрассудство», равнодушие к безопасности, действие, вопреки риску, при осознании такого риска; 5) грубая, серьезная, «распущенная» халатность – резкое отклонение от ожидаемой нормы. Все перечисленные случаи выходят за рамки вопроса о компенсации вреда, то есть гражданско-правовой ответственности, поскольку не только нарушают права пациента, но и посягают на интересы общества [22].
Нормы и практика их применения в Российской Федерации
В Российской Федерации медицинская помощь – это комплекс мероприятий, имеющих целью сохранить здоровье, то есть поддержать его или восстановить. Юридически эти мероприятия, как правило, выражаются в предоставлении медицинских услуг [23]. Получатель этих медицинских услуг, даже если они оплачены в рамках обязательного медицинского страхования, признается потребителями со всеми правами, предоставленными ему соответствующим законом [24]. В случае причинения вреда жизни, здоровью потребителя таких медицинских услуг он или его близкие родственники могут потребовать компенсацию морального вреда, но исключительно через суд – в бесспорном порядке такие требования удовлетворению не подлежат [25].
Между дефектом оказания медицинской помощи и наступившими последствиями должна быть прямая причинно-следственная связь [26]. То есть отдельные, частные, дефекты, отступления от существующих правил оказания медицинской помощи (непроведение осмотра «узким» специалистом, неполнота описания результатов инструментального исследования, отступление от графика наблюдения на амбулаторном этапе ведения беременности и т.д.) не могут быть основанием для применения к медицинской организации каких-либо санкций за неблагоприятные исходы беременности и родов, если эти нарушения непосредственно не привели к этим исходам.
Уголовное преследование любого человека, в том числе врача акушера-гинеколога, является крайним (исключительным) средством реагирования государства на факты противоправного поведения и применяется только тогда, когда нормы других отраслей (например, гражданского права) не позволяют должным образом обеспечить соблюдение закона [27].
Однако уголовная репрессия настигает медицинских работников достаточно часто, и поводами для возбуждения уголовного дела становятся сообщения, поступающие не только от пациентов или их родственников, но и от органов управления здравоохранением [28]. Около трети сообщений трансформируются в уголовные дела, из которых в среднем до 10% направляются в суд (табл. 1). Однако прекращение остальных дел далеко не всегда означает реабилитацию врача, поскольку есть и другие, «нереабилитирующие» основания: истечение сроков давности, примирение с потерпевшим, деятельное раскаяние.

Чаще всего медицинские работники привлекаются к уголовной ответственности по уже упомянутым нами статьям уголовного закона: ст. ст. 109, 118, 124 и 138 УК РФ. Сколько по каждой, приведено в таблице 2.
В этих цифрах – судьбы врачей всех специальностей, а также их пациентов. А вот сугубо «гинекологическая» статья 123 УК РФ – незаконное проведение искусственного прерывания беременности – в последние годы почти не работает. Это связано, во-первых, с тем, что о проведении криминального аборта обычно становится известно только в случае смерти беременной или причинения ей увечья, а, во-вторых, с тем, что врач акушер-гинеколог вообще не может быть субъектом данного преступления, даже если искусственное прерывание беременности проведено с нарушением установленного порядка проведения данной манипуляции [29].
Очень редко в отношении врачей работает административная ответственность, например, за невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской, фармацевтической деятельности (ст. 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Сам по себе конфликт интересов (например, маршрутизация пациента государственной медицинской организации «на анализы» в частную организацию, где этот врач работает по совместительству), не препятствует профессиональной деятельности, однако об этом необходимо письменно сообщить руководителю медицинской организации. Тот, в свою очередь, письменно уведомляет о конфликте Минздрав России, где создается специальная комиссия.
Наиболее строгое наказание предусмотрено за неоднократное непредоставление информации о конфликте интересов; такое нарушение может повлечь дисквалификацию медицинского работника или руководителя медицинской организации сроком на 6 месяцев.
Однако судебная практика в этой сфере фрагментарна: только три дела по части 4 ст. 6.29 КоАП РФ за период с 2017 по 2021 годы; все они были рассмотрены и по всем принято решение об освобождении от административной ответственности. Отчасти это обусловлено сложившейся в судебной практике позицией, согласно которой получение личной выгоды врачом должно быть ассоциировано с некачественным оказанием медицинской помощи [30]. Доказывание этого – процесс сложный и, как видим, с точки зрения судебной статистики, малоперспективный.
Несмотря на сохранение высокой доли уголовного преследования в реагировании государства на дефекты оказания медицинской помощи, основная масса врачебных ошибок приводит к гражданско-правовой ответственности медицинских организаций и конкретных врачей, в том числе акушеров-гинекологов. Гражданско-правовая ответственность конкретного врача наступает только в том случае, если присужденный платеж объективно невозможно взыскать с его работодателя (например, медицинская организация прекратила существование или фактически не действует).
Мера гражданско-правовой ответственности по «врачебным делам» – это прежде всего обязанность возместить причиненный вред. Она применяется при наличии состава нарушения: 1) наступил вред, 2) тот, кто причинил вред, действовал или бездействовал противоправно, 3) именно противоправное поведение привело к наступлению вреда, 4) должна быть установлена вина в причинении вреда того, кто его причинил. За вред пациенту врач платит сам только тогда, когда объективно невозможно взыскать платеж с организации-работодателя, например, если медицинская организация прекратила существование или фактически не действует [31].
Чаще всего к медицинским организациям предъявляются требования о компенсации морального вреда. Компенсация взыскивается при соблюдении следующих условий: 1) при оказании медицинской помощи не приняты все необходимые и возможные меры для своевременного и квалифицированного обследования пациента в целях установления правильного диагноза; 2) организация обследования и лечебного процесса не соответствует установленным порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям (протоколам лечения); 3) дефекты диагностики должны привести к неправильному ее проведению и ненадлежащему лечению; 4) нарушения порядков, стандартов, клинических рекомендаций негативно повлияли на течение заболевания (способствовали ухудшению состояния здоровья, повлекли неблагоприятный исход). Обязанность доказать отсутствие вины в ненадлежащей медицинской помощи, правомерность своих действий (бездействия), отсутствие возможности оказать пациенту необходимую и своевременную помощь, избежать неблагоприятного исхода при надлежащей квалификации врачей, правильной организации лечебного процесса лежит на ответчике, то есть медицинской организации и конкретном специалисте. По общему правилу, компенсация морального вреда присуждается самому пациенту. Члены его семьи могут претендовать на такую компенсацию, если нравственные или физические страдания причинены лично им (вследствие утраты близкого родственника, переживаний, обусловленных наблюдением за его страданиями и т.д.) [32].
Исследование, проведенное еще в 2018 г. по результатам анализа 61 клинического случая с неблагоприятным исходом оказания акушерско-гинекологической помощи, показало, что требования о компенсации морального вреда, предъявляемые к медицинским организациям, достигают 21 млн. руб., среднее медиальное значение присуждаемых компенсаций составляет 1,5 млн. руб. [9].
Далее мы приведем 3 акушерских случая, каждый из которых получил судебно-медицинскую оценку и попал в орбиту судебного разбирательства; описание этих случаев размещено в открытых базах данных. Описание истории родов, действий врачей, неблагоприятных исходов, оценка их причин позволяет поучиться на чужих ошибках, а, может быть, и не согласиться с мнением экспертов о том, что такая ошибка имела место.
Случай 1. Полная отслойка нормально расположенной плаценты. Послеродовое кровотечение Беременная – 39 недель. Возраст 31 год.
03.45: Поступила в акушерский стационар 2 уровня в связи с излитием околоплодных вод без признаков родовой деятельности. В истории родов зафиксирован диагноз: «Протромботическое состояние гемостаза» (лабораторно показатели свертываемости крови на стационарном этапе не уточнены). Получала лечение антикоагулянтами. Обследованием выявлен разрыв плодных оболочек с ранним излитием околоплодных вод и незрелая шейка матки. Назначен мифепристон. Комиссия экспертов сочла это ошибкой, поскольку индукция родов мифепристоном могла усугубить выраженность нарушений в свертывающей системе крови и спровоцировать развитие осложнений. Правильной тактикой на фоне доношенной беременности, преждевременного излития околоплодных вод и противопоказаний к мифепристону, по мнению экспертов, было бы плановое оперативное родоразрешение в течение 24 ч.
00.12 следующих суток: У беременной, судя по дневниковым записям, фиксируются начальные признаки нарушения жизнедеятельности плода: «сомнительная» кривая кардиотокографии (КТГ) плода (с оценкой по Фишеру 5 баллов): частота сердечных сокращений (ЧСС) плода около 155–160 ударов в минуту, с эпизодами повышения до 180 ударов в минуту; сальтоторный (скачкообразный) ритм, с эпизодами амплитуды вариабельности базального ритма более 25 ударов в минуту; отсутствие акцелераций (повышение ЧСС плода на 15–25 ударов в минуту по сравнению с исходной); наличие одной ранней децелерации (эпизоды замедления ЧСС на 30 ударов и более продолжительностью не менее 30 с). Изменения КТГ не приняты во внимание. Дневниковые записи (ЧСС плода 148) не соответствуют данным объективного контроля.
00.40: Зафиксировано урежение частоты схваток (с 4 до 2 за 10 минут) на фоне внутривенного введения раствора окситоцина. На фоне регистрации «сомнительной» КТГ более 30 минут это свидетельствовало, по мнению экспертов, о дистрессе плода и начинающейся слабости родовой деятельности, то есть о показаниях для завершения родов путем экстренного кесарева сечения.
01.40: Диагностирована полная (тотальная) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) с развитием маточного кровотечения и развитием острой внутриутробной гипоксии плода (ЧСС плода 50 ударов в минуту). Начата операция кесарева сечения.
01.52: Кесарево сечение проведено: интранатальная гибель плода вследствие ПОНРП и острой внутриутробной гипоксии. На фоне развития послеродового маточного кровотечения по жизненным показаниям удалена матка с левым придатком.
Выводы комиссии экспертов: оказанная пациентке стационарная медицинская помощь являлась некачественной, однако допущенные дефекты не находились в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Непосредственные причины: индивидуальные особенности беременной (тромбофилия и преждевременное излитие околоплодных вод при отсутствии родовой деятельности), наступившие осложнения (ПОНРП, кровотечение в послеродовом периоде). Допущенные дефекты способствовали наступлению этих осложнений и находились в опосредованной, косвенной взаимосвязи с неблагоприятным исходом беременности.
Случай 2. Перфорация с последующим разрывом стенки матки по рубцу Беременная, срок беременности 21–22 недели. Отягощенный акушерский анамнез: 8 беременностей, 3 родов, в том числе 1 – оперативные.
02.55: Доставлена бригадой скорой медицинской помощи из центральной районной больницы в акушерский стационар 2 уровня.
04.40: Произошел самопроизвольный аборт мертвым плодом.
04.45: Одномоментное массивное выделение из половых путей до 600 мл крови на фоне отсутствия признаков отделения последа.
05.20–06.20: Операция – нижнесрединная лапаротомия, лигирование сосудов матки, остановлена из-за крайне тяжелого состояния оперируемой.
06.20: Остановка кровообращения, реанимационные мероприятия без эффекта.
06.40: Биологическая смерть.
Патологоанатомический диагноз: О67.8 массивное маточное кровотечение в результате разрыва ее стенки при самопроизвольном аборте на сроке 22 недели. Осложнения: Я57.1 геморрагический шок. Непосредственная причина смерти: геморрагический шок.
Экспертами установлены следующие дефекты.
Амбулаторный этап: не произведена гемостазиограмма (анализ свертывающей системы крови), нет сведений о предыдущей операции кесарева сечения, беременная не была направлена на областной перинатальный консилиум.
Этап транспортировки беременной машиной «скорой медицинской помощи»: неверная маршрутизация в акушерский стационар 2 уровня (не учтен высокий риск по материнской и перинатальной смертности). Однако сама по себе транспортировка беременной в перинатальный центр полностью не исключала наступления неблагоприятного исхода.
Стационарный этап: игнорирование показаний к кесаревому сечению (ультразвуковые данные о расположении плаценты в области рубца на матке). Назначение утеротоников (окситоцина, метилэргобревина) при наличии последа в матке. Неприменение консервативных методов выделения из матки отделившегося последа при наличии такой возможности (нижний сегмент и шейка матки были расширены до 10 см). Сквозные повреждения передней, боковой и задней стенок матки вследствие механических повреждений стенки матки кюреткой. Перфорация стенки матки не была своевременно диагностирована ввиду ошибочного предположения врачей о решающей роли разрыва стенки матки по рубцу.
Дефекты хирургического вмешательства: несвоевременное проведение инфузионно-трансфузионной терапии. Во время операции был наложен один (а не два, как требуется) зажим Кохера, фиксированный к части широкой связки матки. Перевязка восходящих ветвей маточных артерий не проводилась, сосудистый хирург к операции не привлекался.
Причинно-следственную связь между наступлением смерти пациентки и действиями персонала акушерского стационара второго уровня эксперты признали прямой, что и было отражено в состоявшемся судебном решении.
Случай 3. Дистресс плода
Беременная (отягощенный акушерский анамнез – третьи роды) обратилась в приемное отделение акушерского стационара 3 уровня без регулярной родовой деятельности с жалобами на тянущие боли внизу живота. Была осмотрена дежурным врачом акушером-гинекологом и госпитализирована в родильное отделение с диагнозом: беременность 40–41 неделя, тенденция к перенашиванию; нейроциркулярная дистония по гипотоническому типу; пролапс митрального клапана 1 степени. Учитывая тенденцию к перенашиванию, «незрелые» родовые пути, была назначена преиндукция родов мифепристоном. Принимая во внимание предстоящие третьи роды, удовлетворительное состояние плода, был намечен план: при развитии регулярной родовой деятельности роды вести через естественные родовые пути.
На следующие сутки с 03 ч. 00 мин. началась регулярная родовая деятельность, первый период родов протекал без осложнений, внутривенно вводились спазмолитики, проводилась оценка внутриутробного состояния плода (КТГ), отклонений от нормы не выявлено.
В 07 ч. 15 мин. второй период родов осложнился нарушением сердцебиения плода; при аускультации сердцебиение выслушивалось приглушено до 60–70 ударов связи с начавшейся асфиксией плода. Акушером-гинекологом произведена родоразрешающая операция вакуум-экстракция плода. Через 5 минут родился ребенок мужского пола без признаков жизни с однократным тугим обвитием пуповины вокруг и «истинным» узлом пуповины.
В третьем периоде родов по показаниям произведена операция – ручное отделение и выделение последа. Послеродовый период протекал без осложнений, в отделении проводилась антибактериальная и сокращающая матку терапия, медикаментозное подавление лактации. Результаты клинико-лабораторного обследования и исследование матки после родов – без патологических изменений.
По мнению экспертов, дефекты оказания медицинской помощи были допущены во втором периоде родов. Когда головка плода находилась на тазовом дне, были зарегистрированы признаки дистресса плода (сердцебиение плода – 60–70 ударов в 1 минуту), в связи с чем, роды были закончены оперативно – вакуум-экстракцией плода. Был извлечен мертвый доношенный мальчик массой 3700 г, ростом 55 см с тугим обвитием пуповиной шеи, а на пуповине был обнаружен истинный узел. Обвитие пуповиной шеи плода и наличие истинного узла пуповины можно диагностировать при УЗИ, либо при постоянном кардиомониторном контроле за состоянием плода в процессе родов (последняя КТГ была произведена за 3 ч до рождения плода). При относительной короткости пуповины (длина 50 см + однократное обвитие шеи плода) во II периоде родов, по мере продвижения головки плода по родовому каналу матери, происходит натяжение пуповины и появляются симптомы острой гипоксии плода (урежение сердцебиения).
Эксперты указали, что до начала потуг состояние плода необходимо контролировать с помощью КТГ, а во время потуг выслушивать стетоскопом или аппаратом для регистрации сердцебиения после каждой потуги. Если головка плода находится малым или большим сегментом во входе в малый таз и появляются симптомы острой гипоксии, роды заканчиваются кесаревым сечением. При головке плода, находящейся в широкой или узкой плоскости малого таза, – наложением акушерских щипцов, если на тазовом дне, – вакуум-экстракцией плода. При своевременной диагностике острой гипоксии плода, при нахождении головки плода на тазовом дне и быстром родоразрешении, ребенок может родиться с низкой оценкой по шкале Апгар, но не мертвым.
Согласно экспертному заключению, диагноз «дистресс плода» был поставлен с опозданием, что и привело к его внутриутробной (интранатальной) гибели. При своевременной диагностике внутриутробной гипоксии жизнь плода можно было спасти путем оперативного родоразрешения (кесарево сечение или наложение акушерских щипцов).
Обсуждение
Мы сознательно не привели решения судов по каждому из приведенных клинических случаев, поскольку считаем более важным привести их судебно-медицинскую оценку, данную экспертом – акушером-гинекологом или комиссией экспертов, в которой непременно должен быть акушер-гинеколог. Эта оценка может быть спорной, однако экспертное заключение принимается во внимание, если оно выполнено квалифицированными специалистами, в нем приведены методы исследования, использованная научная литература, все выводы мотивированы. В выводах экспертов не должно быть противоречий. Заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования, признается необоснованным [33].
Так, Второй кассационный суд общей юрисдикции, оценивая законность состоявшихся судебных решений по уголовному делу в отношении врача акушера-гинеколога, причинившей новорожденной в ходе родов при извлечении плечиков плода перелом средней трети диафиза левой плечевой кости со смещением отломков, указал на недостатки проведенной по делу комиссионной судебно-медицинской экспертизы: из шести членов экспертной комиссии под руководством внештатного негосударственного судебно-медицинского эксперта только один имел специальность «акушерство и гинекология»; в материалах дела отсутствовали сведения о праве врачей, участвовавших в проведении исследования, заниматься экспертной деятельностью; выводы экспертов содержали противоречия и неясности относительно того, на каком этапе и кем из врачей выбрана неверная тактика родоразрешения [34].
Оценка правомерности или неправомерности действий или бездействия врача в конкретной клинической ситуации на основе клинических рекомендаций должна учитывать следующее. Каждая клиническая рекомендация ранжируется по уровню убедительности и уровню достоверности доказательств. Самый высокий уровень – А1 (сильная рекомендация, данная на основе систематического обзора рандомизированных клинических исследований). Самый низкий уровень – С5 – слабая рекомендация, данная без доказательств надлежащего качества, в которой имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов.
Например, рекомендация проводить влагалищное исследование при выявлении нарушений ЧСС плода с целью своевременной диагностики акушерских осложнений, приводящих к данным нарушениям (выпадение петель пуповины, разрыв матки, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты) относится к слабым, данным на основе лишь экспертного мнения (C5) [35]. Однако судебно-медицинский эксперт, оценивая качество оказания беременной медицинской помощи, сослался на несоблюдение этой рекомендации как на дефект, что в итоге было принято как доказательство по гражданскому делу [36]. Суд, как правоприменительный орган не может вторгаться в компетенцию эксперта и оценивать степень достоверности тех или иных клинических рекомендаций, однако эксперту по специальности «акушерство и гинекология» необходимо при оценке качества оказания медицинской помощи, прежде всего, учитывать сильные рекомендации.
Одной из самых волнующих тем для всего врачебного сообщества и для акушеров-гинекологов, в частности, является применение по фактам неблагоприятных исходов медицинской помощи статьи 238 УК РФ (части 2 и 3), поскольку соответствующие преступления отнесены к категории тяжких и предусматривают в качестве наиболее сурового наказания лишение свободы на срок до 10 лет. Приведенная выше статистика показывает, что ст. 238 УК РФ прочно занимает второе место среди составов «врачебных» преступлений.
Выступая перед советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов в октябре 2022 г., министр здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко предложил оставить термин «медицинская услуга» только для финансово-экономических расчетов и медицинской статистики, а не для клинической практики. В существующих вариантах законопроектов предлагается как полное исключение из законодательства термина «медицинская услуга», так и его сохранение, но без применения закона «О защите прав потребителей» к сфере здравоохранения [37]. О том, что медицинскую помощь планируется вывести из-под действия закона о защите прав потребителей, чтобы к медработникам не применялась ст. 238 УК РФ, сообщил также секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации А.А. Турчак [38].
Приветствуя провозглашенный курс на «декриминализацию» медицинской деятельности, медицинские работники, однако, ни в коей мере не вправе забывать о правах, интересах своих пациентов. Значительная часть медицинских работников, в том числе до половины оперирующих специалистов, не признают допущенные ошибки вообще или считают их случайными либо неизбежными [39, 40]. Факты сокрытия ошибок встречаются во всех странах. Как отмечается в зарубежных источниках, это происходит не только в силу страха ответственности, но, прежде всего, из-за высокой интенсивности работы стационаров, когда дефекты сначала перестают замечаться, а затем приобретают системный характер [41]. Для преодоления этой ситуации разработана и реализуется концепция «лечения честностью»: признание ошибки освобождает от дисциплинарной ответственности при отсутствии признаков умысла или халатности, а информация, полученная пациентом из официального извинения медицинской организации не может быть использована против нее в судебном процессе [42]. Статистика объективно подтверждает эффективность указанной стратегии. Так, ретроспективное исследование, проведенное в Италии (2762 клинических случая за 2014–2021 гг.), показало обратную корреляцию между добровольно зафиксированными медицинской организацией инцидентами и претензиями пациентов: рост зафиксированных инцидентов сопряжен со снижением числа претензий. Важнейшей причиной тому названа активная коммуникация врачебного персонала с пациентами и их родственниками, которая значительно снижает желание возбудить судебный процесс [43].
Заключение
В рамках настоящей статьи мы, безусловно, не смогли осветить всех аспектов заявленной темы, а некоторые проблемы затронули сугубо фрагментарно. Однако эта направление, безусловно, должно получить продолжение, причем не только в научной периодике. В частности, юридические аспекты деятельности врача активно обсуждались под руководством академика РАН Г.Т. Сухих в рамках «Зала открытого интервью» на первом международном конгрессе «Право на жизнь», состоявшемся в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России 18–20 апреля 2023 г. По итогам обсуждения все его участники пришли к единодушному мнению о том, что откровенный разговор о врачебных ошибках и об их последствиях должен быть продолжен на самых крупных научных площадках, и прежде всего с участием медицинского сообщества.