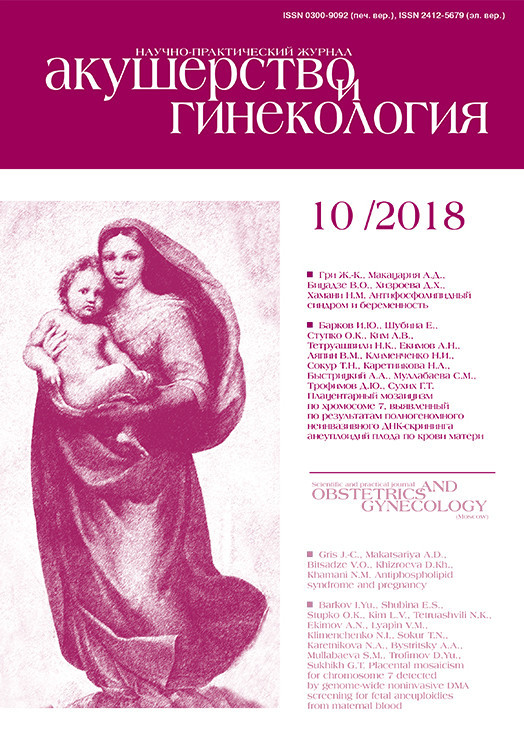Проблема материнской смертности (МС) в современном мире сохраняет свою актуальность и требует неуклонного совершенствования мер по ее снижению. Количественные характеристики МС являются самыми интегрированными показателями репродуктивного здоровья населения, отражающими уровень социально-экономического развития страны, доступность и качество оказания в ней медицинской помощи [1, 2]. Коэффициент МС, который рассчитывают на 100 000 живорождений, учитывает все случаи смерти женщин, наступившие при беременности или в течение 42 дней после ее окончания от причин, связанных с беременностью или отягощенных ею или ее ведением, без учета случайно возникших причин смерти. Причины МС делят на непосредственно связанные с акушерскими осложнениями, или прямые (следствие акушерских осложнений при беременности, в родах и послеродовом периоде, вмешательств, упущений, неправильного лечения и последовавших за ними осложнений) и косвенно связанные с беременностью, или непрямые, часто – предсуществующие (следствие существовавшей до или развившейся при беременности, но непосредственно с ней не связанной, болезни, течение которой усугубили физиологические гестационные изменения); по возможности предотвратимости – на управляемые (к ним относят кровотечения, сепсис и преэклампсия (ПЭ)) и трудно управляемые (тромбоэмболии (ТЭ), эмболии околоплодными водами (ЭОПВ) и тяжелые экстрагенитальные заболевания – ЭГЗ) [1, 2].
Показано, что ближайший благополучный исход беременности не всегда гарантирует отдаленного благополучного материнского исхода. Поэтому, с 1990 года ВОЗ рекомендовала учитывать позднюю материнскую смертность – все случаи смертей, наступившие вследствие акушерских причин в период от 42 дней до одного года после завершения беременности [1, 2].
Кроме того, привести к инвалидности и обусловить отдаленные летальные исходы у матери могут осложнения беременности, родов и послеродового периода с формированием полиорганной дисфункции или недостаточности (ПОН), требующие проведения интенсивной терапии, трансфузии крови и экстренных хирургических вмешательств, выжить при которых позволяет исключительно оказание квалифицированной медицинской помощи. Пациенток, имеющих такие осложнения, характеризуют термином «материнская заболеваемость, едва не лишившая женщину жизни» (near miss maternal morbidity) [3] или «near miss» («почти потерянные», «едва не умершие») [4] – несостоявшаяся материнская смертность (НМС). Рабочей группой ВОЗ разработан сводный перечень таких состояний и предложены их идентификационные критерии. К случаям НМС отнесли [5]:
- дисфункцию сердечно-сосудистой системы – шок, остановку кровообращения и сердечно-легочную реанимацию, выраженный ацидоз (pH<7,1), тяжелую гипоперфузию (лактат >5 ммоль/л), длительное использование вазопрессорных препаратов;
- нарушение функции внешнего дыхания – острый цианоз, острую одышку, тахипноэ больше 40 вдохов в минуту, брадипноэ меньше 6 вдохов в минуту, тяжелую гипоксию (насыщение О2<90%), интубацию и вентиляцию, не связанные с анестезией;
- почечную дисфункцию – олигурию, не отвечающую на назначение диуретиков и введение жидкости, креатинин выше 300 мкмоль/мл, необходимость проведения диализа при острой почечной недостаточности;
- дисфункцию коагуляции – неспособность образовывать тромбы, острое снижение числа тромбоцитов менее 50 000/мл, необходимость в массивной трансфузии эритроцитов (более 5 единиц);
- печеночную дисфункцию – желтуху на фоне клинических симптомов ПЭ, выраженную острую гипербилирубинемию (билирубин более 100 мкмоль/л);
- неврологическую дисфункцию – длительную потерю сознания, кому продолжительностью более 12 часов, паралич, неконтролируемые судороги или эпилептический статус;
- маточную дисфункцию, проявляющую себя необходимостью удаления матки вследствие тяжелого эндометрита или неостанавливающегося консервативными методами кровотечения.
На сегодняшний день все случаи НМС рекомендуют учитывать и анализировать так же, как случаи МС, считая, что проводимый аудит поможет выявить стереотипные ошибки в оказании неотложной акушерской помощи, а устранение выявленных недостатков – улучшить ее качество [6].
Показатели МС в разных странах мира заметно различаются. Свыше 99% случаев МС приходится на развивающиеся страны [7], коэффициент МС в которых в 2015 году в среднем составлял 239 на 100 000 случаев рождения живых детей; в экономически развитых странах он не превышает 12 на 100 000 живорожденных [6]. Наибольшие показатели МС (на 100 000 живорожденных) регистрируют в Африке (870), Южной Азии (390), Латинской Америке и странах Карибского бассейна (190), Центральной Америке (140), где около половины беременных и рожениц не охвачены диспансерным наблюдением и не получают медицинской помощи в родах. Наименьшие (в пределах 1–6) – в Канаде, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Дании, Исландии, Израиле, для которых характерно не только высокое качество оказания медицинской помощи, но и высокий уровень жизни, высокая санитарная культура населения и решенные социальные проблемы. В Российской Федерации (РФ) показатель МС долгие годы был более высоким относительно экономически развитых стран, составляя по данным Госкомстата в течение последнего десятилетия в среднем 17,3 на 100 000 живорожденных. И только в 2014 году он первый раз в истории РФ снизился до 10,8 на 100 000 родившихся живыми. Достигнутые успехи по снижению МС в РФ связывают с улучшением финансирования здравоохранения, со строительством в 22 субъектах РФ перинатальных центров; внедрением в клиническую практику современных технологий обследования и лечения беременных; организацией трехуровневой системы оказания акушерской помощи; созданием дистанционных консультативных центров и выездных акушерских реанимационных бригад; внедрением стандартов ведения беременных, основанных на полученных доказательствах эффективности лечения [8].
Для стран с высоким уровнем жизни характерны также невысокие показатели НМС, которые колеблются в пределах от 3,8 до 12 случаев на 1000 родов; для стран с низким уровнем жизни – более высокие количественные характеристики этого показателя – от 67 до 118 на 1000 родов [9]. В России в 2015 году показатель НМС в среднем составлял 30 на 1000 родов [10].
Информативным считают анализ соотношения случаев МС к НМС, которое косвенно характеризует эффективность оказания неотложной акушерской помощи. В Великобритании этот показатель составляет от 1:5 до 1:118 [1]; в Англии 1:12, в Нидерландах 1:7,1, в Канаде 1:4,4, в Финляндии 1:7,6, в США от 1:3,8 до 1:12 [11]; в Латинской Америке, стране с невысоким уровнем дохода и широкой распространенностью инфекционно-воспалительных заболеваний, – 1:19 [12]; в Индии, имеющей самые высокие показатели МС в мире, – 1:2 [13]; в РФ – 1:18 [14] – 1:13 [15] – 1:11 [16]. Следовательно, показатели МС и НМС в значительной мере зависят от экономического статуса государства и уровня финансирования здравоохранения в нем. В РФ эти показатели замено отличаются от показателей развивающихся стран и по количественным характеристикам в большей степени соответствуют показателям экономически развитых стран мира.
Оценка показателя МС в динамике свидетельствует о том, что за последние 25 лет в мире в целом он снизился на 43, 9% – с 385 случаев на 100 000 живорожденных в 1990 до 216 в 2015 году [7]. Такие темпы снижения МС считают недостаточными – в 2000 году на Саммите Тысячелетия ООН была принята программа «Цели развития тысячелетия», ориентировавшая мировое сообщество на снижение показателя МС к 2015 году на 75%. А позднее поставлена задача к 2030 году иметь общемировой показатель МС менее 70 на 100 000 живорожденных [17].
Однако поставленные цели оказались недостижимыми и к 2015 году только Европейскому региону удалось снизить показатель МС до запланированного уровня – 15 на 100 000 живорожденных. Ожидаемого снижения общемирового показателя МС до 130 на 100 000 живорожденных не произошло [7]. В РФ по данным Госкомстата за последнее десятилетие отмечено снижение МС в 3,79 раза (с 41,0 в 2001 году до 10,8 на 100 000 живорожденных в 2014 году) и достижение целевого для Европейского региона уровня этого показателя, что свидетельствуют о достаточной эффективности проводимых в стране в этом направлении государственных мероприятий.
Структура причин МС в разных странах имеет заметные различия. В развивающихся странах основными являются прямые причины МС (сепсис, акушерские кровотечения, послеабортные осложнения, ПЭ и разрывы матки), на долю которых в совокупности приходится 75%. Остальные 25% обусловлены предсуществующими (непрямыми причинами) – инфекционно-воспалительными заболеваниями (малярией, вирусными гепатитами, ВИЧ/СПИД и осложнениями с ними связанными), реже сахарным диабетом [7]. К медицинским и социальным факторам, определяющим высокий уровень МС в таких странах, относят отсутствие дородовой диагностики и квалифицированной помощи в родах, много подростковых беременностей, высокую общую заболеваемость населения, недостаток медикаментов, низкий уровень образованности и плохое медицинское просвещение, частые беременности с короткими интергенетическими интервалами, недоступность современных средств контрацепции, плохие санитарно-гигиенические условия, дефекты питания и отсутствие поддержки со стороны государства [18].
В структуре МС в развитых странах мира лидирующие позиции занимают не прямые причины, в частности хронические соматические заболевания, на долю которых приходится до 40%. Значимыми остаются кровотечения (13,4%), ПЭ (16,1%), аборты (8,2%), эктопическая беременность (4,9%) и сепсис – 2,1% [18]. Быстрыми темпами растут осложнения анестезии и ТЭ – их доля в структуре МС достигает 14,9%. Такой рост связывают с увеличением числа оперативных родоразрешений, после которых риск ТЭ увеличивается в 10–15 раз [19]. Определяющими особенностями здоровья и репродуктивного поведения женщин являются высокая распространенность соматических заболеваний, нередко ассоциированных с ожирением (сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и ишемических нарушений). Доля лиц, имеющих ожирение, в США составляет 31,8%, в Израиле – 26,5%, в Великобритании – 24,9% [20].
Также для развитых стран характерно увеличение возраста рожающих; редкие беременности; невысокая (7–21 на 1000 женщин репродуктивного возраста) частота абортов [21]; низкая распространенность урогенитальных инфекционно-воспалительных заболеваний (в США при беременности их выявляют среди белых женщин в 5,0% случаев, среди афро-американок в 21,0% [22, 23]).
В РФ основной причиной МС с 2008 года являются ЭГЗ, на долю которых в структуре МС в 2015 году приходилось 34,8%. Лидирующие позиции занимают акушерские кровотечения (19,5%) и ЭОПВ (15,8%). Значимыми остаются тяжелые ПЭ (11,6%), осложнения абортов (6,0%) и сепсис (5,1%) [24]. Характерными особенностями здоровья россиянок считают высокую распространенность ЭГЗ – их диагностируют у 80,0–87,3% беременных [25] (на одну беременную до 35 лет в среднем приходится по 2,0, а после 35 лет – по 3,2 соматических заболевания) [26]. Быстрыми темпами растут ожирение (его имеет от 15,5 до 30% беременных) и осложнения, связанные с ним [27]. Кроме того, в РФ у женщин репродуктивного возраста часто выявляют урогенитальные инфекционно-воспалительные заболевания (при беременности – в 67,65–100,0% случаев [28]), а особенностью репродуктивного поведения является достаточно большое число абортов (по данным официальной регистрации 41 на 1000 женщин репродуктивного возраста [21]). То есть особенности структуры основных причин МС в РФ с преобладанием в ней доли предсуществующих состояний (ЭГЗ) и неуправляемых причин смерти (ЭОПВ) свидетельствуют о достаточно высоком уровне оказания неотложной акушерской помощи. Большая доля акушерских кровотечений в структуре причин МС требует детального анализа ошибок в ведении этой категории пациентов и более активного внедрения в практику современных технологий оказания им неотложной помощи. Особенности здоровья и репродуктивного поведения россиянок сохраняют актуальность совершенствования мероприятий по планированию семьи; требуют более активного выявления и повышения эффективности лечения инфекционно-воспалительных урогенитальных заболеваний; совершенствования принципов ведения беременных с ЭГЗ.
В ряде публикаций (2005–2017 годы) отмечено, что в разных странах уровень МС на 30,0% и более выше у мигрантов, чем у представительниц коренного населения [29, 30], даже при проведении для них общепринятых в стране для беременных и рожениц диагностических и лечебных мероприятий [31]. Этот факт свидетельствуют о том, что показатели МС отражают не только качество оказания медицинской помощи беременным, но и распространенность среди них предсуществующих патологических состояний. Следовательно, риски развития критических ситуаций в акушерстве в значительной мере зависят от состояния здоровья женщин репродуктивного возраста в целом, от их готовности и возможности проводить мероприятия по улучшению своего здоровья, то есть от степени их образованности и социального благополучия.
Говоря о перспективных направлениях по дальнейшему снижению МС в РФ, целесообразно вспомнить, что наличие заметных различий в этом показателе в разных регионах мира обусловливает необходимость дифференцированных подходов в борьбе с материнскими потерями. По мнению экспертов ВОЗ, внедрение в развивающихся странах простых медико-организационных мероприятий – диспансеризации (4 визита за беременность) и обеспечения медицинской помощью в родах при охвате 60% рожающих женщин [31] может предотвратить 63–80% случаев смертей, прямо связанных с беременностью и родами, и 88–98% всех случаев смерти матерей [1]. Следовательно, только анализ существующих проблем и индивидуальная разработка системы государственных мероприятий по дальнейшему снижению МС может оказаться максимально эффективной.
Учитывая в течение многих лет заметное влияние на показатели МС в РФ «управляемых» причин (акушерских кровотечений, ПЭ, сепсиса), основные перспективы улучшения оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в РФ долгое время видели в неуклонном повышении качества обучения и подготовки медицинских кадров, дальнейшем внедрении стандартов оказания неотложной акушерской помощи, увеличении финансирования и дооснащении акушерских стационаров медицинским оборудованием, совершенствовании систем мониторинга и маршрутизации беременных. Реализация этих принципов показала свою эффективность на практике. В Тюменской области после оптимизации маршрутизации беременных и внедрения современных технологий оказания неотложной акушерской помощи за два года удалось снизить показатели МС в 5,3 раза (с 51,9 до 9,8 на 100000 живорожденных к 2010 году) и заметно изменить ее структуру [32]). В Хабаровском крае после ввода в эксплуатацию краевого перинатального центра за 2 года в 3,3 раза снизилась МС, обусловленная прямыми причинами (с 27,6 до 8,2 на 100 000 родившихся живыми) [33].
Анализ показателя МС по федеральным округам (ФО) РФ демонстрирует его значительные различия на разных территориях. Самые низкие показатели МС на 100 000 родившихся живыми в 2013 году при средне российском показателе 12,9 были зафиксированы в Приволжском (9,4) и Южном (9,8) ФО; самые высокие – в Северо-Кавказском (18,3) и Дальневосточном (17,3); высокие – в Северо-Западном (14,9) и Центральном (14,8) ФО [24].
При попытке проанализировать влияние на показатели МС разных факторов оказалось, что коэффициент МС имеет слабую степень прямой корреляционной связи со средним уровнем доходов населения (r=0,27, р<0,05) на территории и сильную степень обратной связи (r=– 0,79, р<0,05) с рейтингом региона по качеству жизни, составленному на основании интегративного учета 73 показателей, отражающих уровень экономического развития и финансовых дотаций, доходы населения и обеспеченность различными видами услуг [34]. Согласно данным рейтинговых агентств, лидерами по уровню доходов на душу населения являются крупные столичные города (Москва и Санкт-Петербург) с прилегающими к ним территориями, для которых характерны не только высокие доходы, но и заметное «расслоение» населения, активные миграционные процессы. Проведенный за 2011 год по Москве и Московской области анализ случаев МС наглядно отражает негативное влияние на этот показатель социальных факторов: 41,0% всех летальных материнских исходов «обеспечили» не обследованные и не состоящие на диспансерном учете мигранты; 29,0% умерших женщин были социально неблагополучными. Оказалось, что для столицы характерен достаточно высокий уровень МС (в 2011 году он составлял 25,3 с учетом иногородних и 14,7 без них при средне российском показателе 17,3 на 100 000 живорожденных), несмотря на хорошую организацию и качественное оказание неотложной акушерской помощи [30]. Регионы, стабильно являющиеся лидерами по качеству жизни, имеют одни из самых низких показателей МС на 100 000 живорожденных: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (5,0–7,8 [35]), Белгородская (5,9–11,2), Воронежская (8,4–8,0) и Тюменская (9,3–8,6) области. То есть не столько средний уровень доходов населения влияет на показатели МС, сколько реальный уровень жизни и обеспеченность социальных гарантий. Следовательно, без разработки государственных программ поддержки социально незащищенных слоев населения сложно ожидать дальнейшего заметного снижения показателя МС. Успешность реализации таких программ наглядно демонстрирует Израиль, имеющий уровень МС 0–2 на 100 000 живорожденных, в котором до 63% арабов и 67% ультраортодоксальных евреев испытывают значительные материальные затруднения, что обуславливает среди этих категорий населения увеличение почти в 2 раза перинатальной, младенческой и МС. Существующие сложности преодолеваются за счет реализации государственных образовательных и финансовых программ, направленных на просвещение этих слоев населения и обеспечение их качественным бесплатным дородовым обследованием и лечением [36].
Анализ медицинских факторов, влияющих на показатели МС в РФ [24], свидетельствует о том, что умершие женщины в большинстве случаев имеют соматические (в 88,9%) и гинекологические (у 57%) заболевания. Из ЭГЗ чаще диагностируют патологию сердечно-сосудистой системы (в 40% случаев), почек и нейрообменно-эндокринные нарушения (в 30%). Для 70,6% умерших оказывается характерной коморбидность (сочетание 2–3 заболеваний и более), то есть невысокое качество соматического здоровья. Среди гинекологической патологии доминируют хронические воспалительные заболевания матки и придатков (их выявляют у 20,6% умерших), миома (у 8,8%) и эндометриоз (у 5,9%). В 90,2% случаев беременность, закончившаяся МС, протекала с осложнениями.
Из ЭГЗ, ставшими непосредственными причинами МС, чаще прочих выявляют заболевания системы кровообращения (ТЭ, кардиомиопатии, разрывы аневризм сосудов, пороки сердца) – на их долю приходится 76,6%; болезни органов дыхания – 38,29%, среди которых доминирующей (17 случаев из 18) является тяжелая пневмония на фоне гриппа; инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные менингоэнцефалиты, туберкулез) – 27,65%; патологию желудочно-кишечного тракта – 14,89%. Обращает на себя внимание, что причинами формирования ЭГЗ, ставших непосредственной причиной смерти, как минимум в 65,94% оказываются инфекционно-воспалительные процессы. В 69,4% случаи МС, обусловленные ЭГЗ, признают не предотвратимыми; в 3,7% случаев у умерших выявляют не курабельные соматические заболевания [24].
Согласно результатам патологоанатомических исследований, непосредственной причиной МС, как правило, становится ПОН. Обращает на себя внимание тот факт, что по результатам проведенных гистологических исследований у погибших женщин часто выявляют морфологические признаки хронического поражения внутренних органов (почек – в 82,8%; сердечно-сосудистой системы – в 41,4%; эндокринной системы – в 62%; желудочно-кишечного тракта – в 48,3%), которые почти в половине случаев оказываются не диагностированными при жизни; у 41,4% умерших описывают морфологические признаки декомпенсированной соматической патологии [37]. Настораживающей тенденцией последних лет является увеличение числа случаев развития острой почечной недостаточности у больных с ПЭ в послеродовом периоде [38].
Учитывая рост почти в два раза за последнее десятилетие числа пациенток с высокой коморбидностью [39], актуальной на сегодняшний день становится задача формирования междисциплинарных подходов к диспансерному наблюдению женщин репродуктивного возраста, повышение качества обследования с обязательным использованием современных, в том числе аппаратных методов [40], особенно при подозрении на патологию сердечно-сосудистой системы, а также совершенствование мероприятий по профилактике осложнений беременности, родов и послеродового периода. Перспективным в этом плане видится использование эфферентных методов лечения: плазмафереза и экстракорпоральной детоксикации, что повышает выживаемость больных с акушерским сепсисом до 95% [41]. Обнадеживающими являются результаты профилактического назначения иммуномодуляторов и этиотропных лекарственных средств: у беременных в Забайкальском крае во время эпидемии гриппа профилактическое назначение противовирусного препарата умифеновира и человеческого рекомбинантного интерферона α2b позволило в 3–7 раз снизить заболеваемость гриппом и более чем в 60 раз уменьшить риск развития его тяжелых форм [42]. Назначение прямых антикоагулянтов и дезагрегантов беременным с хронической болезнью почек в два раза снижает число неблагополучных перинатальных исходов и риски прогрессирующего поражения скомпрометированных органов [43].
Анализ дефектов лечебно-диагностического процесса при оказании помощи пациентам с МС и НМС выявляет наличие стереотипных ошибок. К ним относят: недооценку тяжести состояния больных на амбулаторном и стационарном этапах ведения (она имеет место в 78,9% случаев) [14]; госпитализацию в не профильный стационар; оказание медицинской помощи не в полном объеме (несвоевременное и неполное обследование, ошибки в формулировке клинического диагноза); запоздалое родоразрешение (в 63,2% случаев); задержку при решении вопроса о гистерэктомии; неадекватный объем терапии и полипрагмазию (в 42,1%) [10].
Наибольшее число ошибок выявляют при анализе историй пациентов с коморбидностью и сочетанной патологией (воспалением и синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания; ЭГЗ и ПЭ; тяжелой ПЭ и послеродовыми кровотечениями) [10], а также в случаях предотвратимой МС [44]. По результатам независимого аудита случаи МС в 79,1 [15] – 75,8% [24] признают предотвратимыми и условно предотвратимыми и только в 24,2% – непредотвратимыми [24]. Все это, помимо квалификации медицинского персонала, отражает существующие сложности в объективной прижизненной оценке тяжести состояния пациентов акушерских стационаров. Традиционно используемые с этой целью оценочные системы не всегда позволяют достоверно прогнозировать исходы острых акушерских ситуаций и требуют адаптации их для беременных [45]. Не идеальными являются и предложенные идентификационные критерии НМС – они отсутствуют у 2/3 женщин с тяжелой острой материнской заболеваемостью и у 1/3 умерших пациентов [46]. Более информативным оказывается мониторирование жизненно важных функций с учетом отклонения анализируемых параметров от персональных норм [47]. Недостаточно высокая чувствительность используемых на сегодняшний день в акушерской практике методов оценки состояния пациентов, по-видимому, нередко и затрудняет своевременное принятие решения о начале интенсивной терапии и проведении оперативного лечения. Следовательно, на сегодняшний день актуальной проблемой акушерства является совершенствование технологий обследования беременных, особенно с соматической и сочетанной патологией; поиск интегративных и доступных, но при этом информативных скрининговых методов донозологической диагностики.
Анализ качества организации медицинской помощи беременным показывает, что большинство случаев МС происходят в стационарах II и III группы (среди умерших в 2011 году в акушерских стационарах I группы погибло 24,3%, II – 33,2% и III – 42,5%), то есть в большинстве случаев госпитализация пациентов проводится в профильные стационары. При экспертной оценке медицинских документов умерших в 60,7% случаев выявляют дефекты и несоблюдение существующих стандартов оказания медицинской помощи [24]. Следовательно, актуальной остается задача проведения аудита случаев МС и НМС; дальнейшая работа по внедрению утвержденных стандартов и протоколов ведения; совершенствование системы маршрутизации беременных, возможно, уточнение показаний для дородовой госпитализации.
Заключение
В целом проведенный обзор литературы выявил в экономически развитых странах наличие тенденции к повышению требований к безопасности материнства и расширению понятия «не благополучный материнский исход». Анализ показателей МС в РФ показал наличие в стране заметных успехов в снижении материнских потерь. Динамика количественных показателей МС в РФ и структура основных причин материнских потерь позволили сделать вывод о том, что в России создана и достаточно успешно функционирует система оказания неотложной акушерской помощи. Следовательно, на сегодняшний день для дальнейшего снижения показателя МС требуется смена приоритетов – на повестку дня выходит задача не столько совершенствования организации оказания неотложной акушерской помощи, сколько повышение качества медицинского обслуживания женщин репродуктивного возраста и беременных, организация профилактической направленности работы с ними. Реализация этой задачи требует раннего, донозологического выявления существующей у них патологии, особенно сердечно-сосудистой системы и инфекционно-воспалительных заболеваний; совершенствования системы планирования семьи и оздоровления женщин репродуктивного возраста; разработки интегративных скрининговых методов количественной оценки особенностей адаптивных реакций у беременных для повышения эффективности прогнозирования основных осложнений гестации, своевременного начала профилактических мероприятий, совершенствования методов профилактики и оценки их эффективности на основании количественных показателей; оптимизации систем скринингового наблюдения за женщинами в послеродовом периоде, разработки прогностических критериев изменения анализируемых показателей, уточнения показаний для начала интенсивной терапии и проведения оперативного лечения на основании количественных характеристик мониторируемых параметров. Также необходимо решение ряда социальных проблем – совершенствование и более активное внедрение образовательных программ для молодых женщин о необходимости прегравидарной подготовки, более серьезная государственная поддержка женщин из малообеспеченных семей до и во время беременности.