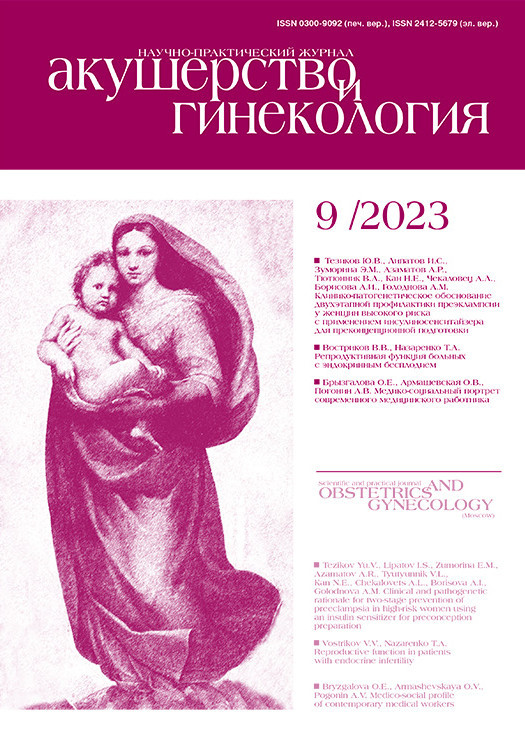Современные исследования показали, что многие патологические состояния, реализующиеся в различных клинических нозологиях, связаны в той или иной степени с нарушениями ангиогенеза. В частности, чрезмерный ангиогенез сопровождает развитие и может усугубить течение рака, ретинопатии, артрита или атеросклероза, а недостаточный ангиогенез сочетается с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, диабетом, гипертонией и заболеваниями почек [1, 2]. Особый аспект в исследовании ангиогенеза отводится патологии беременности, поскольку плацентарный ангиогенез определяет функционирование фетоплацентарной системы как обменного органа между матерью и плодом и адекватное развитие последнего.
Плацента – орган, который определяет нормальное развитие плода во время беременности, поскольку опосредует обмен питательных веществ и газов между материнским и фетальным кровообращением. Нормальный морфогенез плаценты как органа определяется эффективностью процессов инвазии трофобласта, васкулогенеза и ангиогенеза. Наружным слоем ворсин плаценты служит многоядерная структура – синцитиотрофобласт, который в комплексе со стромой и фетальным эндотелием составляет плацентарный барьер, посредством которого происходит двунаправленный транспорт. Способность плаценты обеспечивать питательными веществами и кислородом плод по мере его роста зависит от разветвленной сосудистой сети в плацентарных ворсинках [3–5].
Для нормального развития и функционирования плаценты важным фактором является равновесие механизмов ангиогенеза, т.е. развитие сосудистой сети в соответствии со сроком беременности, а также баланс между процессами ангиогенеза и апоптоза, который поддерживается факторами, регулирующими ангиогенез. Изменение баланса ангиогенных факторов лежит в основе патологических нарушений плацентации и ассоциируется с такими осложнениями беременности, как преэклампсия (ПЭ), гестационная артериальная гипертензия, преждевременные роды, задержка роста плода (ЗРП), острая гипоксия плода [6, 7]. Баланс ангиогенных факторов нарушен в крови матерей, а также миокарде плодов с врожденными пороками сердца [8–11].
Характеристика факторов, регулирующих ангиогенез во время беременности
Важнейшими регуляторами процессов васкулогенеза и ангиогенеза являются ангиогенные факторы, к которым относятся семейство VEGF и их рецепторы (VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3) [12]. VEGF (сосудистый эндотелиальный фактор роста) – ключевой ангиогенный фактор, который, помимо физиологического ангиогенеза, значим в патологическом ангиогенезе. Он индуцирует развитие и прогрессирование некоторых патологических состояний в постнатальном периоде, таких как рост и метастазирование опухолей, макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, воспалительные процессы (например, ревматоидный артрит), ишемические процессы (ишемия миокарда), ПЭ и т.д. [12–14]. Начиная с ранних сроков беременности VEGF вместе c Ang-1 (ангиопоэтином-1) обеспечивают формирование плацентарной сосудистой сети [3].
Члены семейства VEGF являются гомодимерными гликопротеинами, содержащими мотив цистин-узла, характеризующийся расположением определенных бисульфидных мостиков в структуре белка [12, 15]. Белки семейства VEGF образуются в результате альтернативного сплайсинга матричной мРНК одного гена, содержащего 8 экзонов. Причем альтернативный сплайсинг 6-го и 7-го экзонов изменяет не только состав их аминокислотной последовательности, но и гепарин-связывающие свойства, которые обусловливают связывание белков VEGF с гликокаликсом и внеклеточным матриксом (ВКМ), в которых в изобилии представлены гепарансульфат протеогликаны (HSPGs). У человека семейство VEGF включает несколько членов, которые выполняют различные функции: VEGF-A (представлен несколькими изоформами (VEGF121, VEGF121b, VEGF145, VEGF165, VEGF165b, VEGF189, VEGF206, из которых преобладает VEGF165), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и фактор роста плаценты (PlGF) [12, 16]. Недавно к семейству был добавлен новый член –эндотелиальный фактор роста эндокринных желез (EG-VEGF) [12].
В научной литературе под аббревиатурой VEGF наиболее часто описывают VEGF-A, который играет важную роль в васкулогенезе, ангиогенезе и неоангиогенезе, стимулируя пролиферацию клеток, апоптоз, увеличение проницаемости сосудов, вазодилатацию, привлечение воспалительных клеток к месту повреждения [12, 16, 17]. Он может депонироваться в межклеточном пространстве и обладает способностью к диффузии, но 50–70% фактора находится в связанной форме [18].
Ген VEGFA содержит 8 экзонов. В результате альтернативного сплайсинга VEGF образуются различные по длине изоформы: VEGF121, VEGF145, VEGF148, VEGF162, VEGF165, VEGF165b, VEGF183, VEGF189 и VEGF206. Эти изоформы обладают различными биологическими свойствами, в зависимости от структуры и количества содержащихся аминокислот, а также от их сродства к HSPGs. Все изоформы имеют общую область, кодируемую экзонами 1–5. Предполагается, что экзоны 6 и 7 (отсутствующие в некоторых изоформах) отвечают за сродство факторов к HSPGs, за счет чего обеспечивается их связывание с гликокаликсом клетки в области ее мембраны и ВКМ. А экзон 8, присутствующий во всех изоформах, обеспечивает пролиферацию эндотелиальных клеток. VEGF121, VEGF165 и VEGF189 являются наиболее экспрессируемыми формами. Из них VEGF165 – преобладающая изоформа, которая наиболее активна в васкулогенезе. VEGF165 имеет умеренное сродство к HSPGs, так как не содержит аминокислот, кодируемых экзоном 6, но имеет аминокислотные остатки, кодируемые экзоном 7, и по этой причине может существовать как в свободной, так и в связанной с HSPGs форме. Однако большая часть VEGF165 остается ассоциирована с поверхностью клетки. VEGF121, не имеющий аминокислот, кодируемых экзонами 6 и 7, не имеет сродства к HSPGs, по этой причине существует в свободной форме. VEGF189 и VEGF206 являются самыми длинными изоформами, они имеют высокое сродство к HSPGs и полностью секвестрированы в ВКМ. Считается, что по этой причине VEGF189 и VEGF206 менее активны, чем VEGF121 и VEGF165. Изоформы VEGF145, VEGF183, VEGF162 и VEGF165b встречаются гораздо реже. Было обнаружено, что VEGF165b ингибирует VEGF-A165, т.е. обладает подавляющим действием на васкуло- и ангиогенез. Изоформы VEGF-A121b, VEGFA183b, VEGF-A145b и VEGF-A189b также встречаются редко. Исследования in vivo и in vitro также показали их подавляющее действие на процессы васкуло- и ангиогенеза, которое наиболее выражено у VEGF-A165b и VEGF-A121b [12, 14].
В ответ на гипоксию VEGF секретируют не только эндотелиальные, но и другие клетки: опухолевые клетки, макрофаги, тромбоциты, кератиноциты, почечные мезангиальные клетки, активированные Т-клетки, лейкоциты, дендритные клетки, пигментные эпителиальные клетки сетчатки, клетки Мюллера в сетчатке глаза, астроциты, остеобласты, бронхиальные и альвеолярные эпителиальные клетки, перициты [12, 19–21]. При гипоксии синтез VEGF стимулируется в результате активации транскрипции гена VEGF и увеличения времени полураспада мРНК. Длительный период гипоксии ведет к накоплению VEGF. Обнаружено, что VEGF экспрессируется в миофибробластах миокарда, что позволяет предположить его участие в постинфарктном восстановлении и ремоделировании тканей [12, 16].
VEGF-B экспрессируется в раннем эмбриональном периоде; у взрослых обнаруживается в различных тканях, главным образом в миокарде, скелетных мышцах и поджелудочной железе [12]. Установлено, что VEGF-B не влияет на рост сосудов, но опосредованно влияет на ангиогенез, поддерживая жизнеспособность гладкомышечных клеток перицитов и способствуя их выживанию [22].
Максимальная экспрессия VEGF-C обнаружена в лимфатических сосудах, вследствие чего он позиционируется как маркер лимфангиогенеза. Высокая экспрессия VEGF-C выявляется в эмбриональных тканях, где начинается развитие лимфатических сосудов (яремная, периметанефрическая, аксиллярная области), в то время как у взрослых он детектируется в сердце, яичнике, плаценте, кишечнике, щитовидной железе и др. VEGF-C способствует формированию сосудистых анастомозов между плодами при многоплодной беременности [23].
VEGF-D обладает сходными свойствами с VEGF-C, поскольку регулирует лимфангиогенез, но не имеет существенного значения для ангиогенеза [12, 24]. Высокий уровень VEGF-D выявляется в легких эмбриона, где он участвует в развитии лимфатических сосудов [12]; у взрослых обнаруживается в сердце, легких, скелетных мышцах, тонком кишечнике [12].
PlGF – гликопротеин семейства VEGF, который преимущественно воздействует на процессы ангиогенеза, чем васкулогенеза. В результате альтернативного сплайсинга гена PlGF образуются 4 изоформы: PlGF-1 (PlGF131), PlGF-2 (PlGF152), PlGF-3 (PlGF203) и PlGF-4 (PlGF224), которые отличаются молекулярной структурой и биологическими свойствами [12]. PlGF-1 (PlGF131) и PlGF-2 (PlGF152) – две количественно преобладающие формы, они отличаются друг от друга вставкой 21 основной аминокислотной последовательности в терминальной части, которая придает PlGF-2 сильную HSPGs-связывающую способностью, что снижает его секрецию во внеклеточную среду [25].
Влияние PlGF на васкулогенез проявляется опосредованно через стимуляцию мобилизации мезенхимальных предшественников эндотелиальных клеток, которые участвуют в васкулогенезе. PlGF вовлечен в имплантацию бластоцисты, рост, дифференцировку и инвазию трофобласта [12, 26]. PlGF синтезируется преимущественно клетками цитотрофобласта, но также был обнаружен в слизистой оболочке матки: в стромальных децидуальных клетках, железистом и люминальном эпителии матки, предецидуальных стромальных клетках в секреторной фазе маточного цикла. Также он детектируется в сердце, легких, коже (кератиноциты, эндотелий сосудов дермы) [12, 26]. Стимулами для повышения экспрессии PlGF служит секреция факторов роста, гормонов и провоспалительных цитокинов. PlGF не обладает прямым митогенным действием и не увеличивает сосудистую проницаемость, но в патологических условиях связывается со специфическим рецептором VEGFR-1, вытесняя VEGF-A из связавшегося с VEGFR-1 комплекса, и способствует связыванию VEGF-A с VEGFR-2, косвенно усиливая эффекты VEGF-A (увеличение проницаемости сосудов, миграции и пролиферации клеток, и т. д.) [12]. То есть циркулирующий PlGF стимулирует ангиогенез как путем прямой активации внутриклеточных сигнальных путей, так и косвенно, путем увеличения биодоступности VEGF-A.
Вне беременности у здоровых людей экспрессия PlGF отсутствует или выявляется на низком уровне, но возрастает при патологических состояниях, таких как воспаление или ишемия [27, 28]. Уровень экспрессии PlGF повышается в условиях канцерогенеза и ишемии [27, 29–31]. Однако, в отличие от опухолевого роста, при беременности транскрипционная активность PlGF в трофобласте подавляется гипоксией, но, напротив, усиливается при нормоксии, что указывает на специфический механизм регуляции фактора в этих клетках. При воздействии гипоксии трофобласт подвергается апоптозу, что приводит к прекращению синтеза PlGF [27]. В норме после имплантации, на ранних сроках беременности экспрессия PlGF значительно возрастает [28]. Аномальная экспрессия PlGF во время беременности влияет как на функции трофобласта, так и на формирование и развитие сосудов плаценты [32–35].
Все члены семейства VEGF связываются с тирозинкиназными рецепторами, за счет чего проявляется их биологический эффект на сосуды [12]. Описаны три типа рецепторов VEGF: VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3 [12]. Преимущественная экспрессия VEGFR-1 и VEGFR-2 выявляется на эндотелиальных клетках сосудов; VEGFR-3 – на эндотелиальных клетках лимфатических капилляров [16].
VEGFR-1 (Fms-подобная тирозинкиназа 1 (Flt-1)) имеет молекулярную массу 180 кДа и обладает высоким сродством к VEGF-A, VEGF-B [36]. К VEGFR-1 имеют сродство все изоформы PlGF. PlGF-2 также связывается с NRP-1 и NRP-2, которые являются корецепторами VEGFR-1 [27]. Кроме эндотелиальных клеток, VEGFR-1 могут экспрессировать клетки, участвующие в воспалении, гемопоэтические клетки, прогениторные клетки костного мозга, трофобласт, мезангиальные клетки почки, опухолевые клетки, гладкомышечные клетки сосудов. VEGFR-1 играет важную роль в миграции эндотелиальных клеток, моноцитов, макрофагов и гемопоэтических стволовых клеток, способствуя патологическому ангиогенезу во взрослом возрасте (опухоли, воспаление, ишемия, ПЭ и др.). VEGFR-1 имеет в 10 раз большее сродство к VEGF, чем VEGFR-2, но обладает слабой тирозинкиназной активностью. Предполагается, что высокоаффинное взаимодействие VEGFR-1 с лигандом ингибирует проангиогенные сигналы на ранней стадии, предотвращая связывание VEGF с VEGFR-2, который экспрессируется на de novo сформированных эндотелиальных клетках, поскольку взаимодействие VEGF с VEGFR-2 оказывает более выраженный стимулирующий эффект на пролиферацию эндотелиальных клеток [12].
Растворимая форма VEGFR-1 (sVEGFR-1 или sFlt-1) является результатом альтернативного сплайсинга гена VEGFR-1. У sVEGFR-1 отсутствуют трансмембранный и внутриклеточный домены, которые имеются у VEGFR-1. Однако он сохраняет способность связываться с VEGF и PlGF. Его сродство к VEGF в 10 раз выше, чем к PlGF. Связываясь с циркулирующими в крови PlGF и VEGF, sFlt-1 снижает их биодоступность для мембранных рецепторов Flt-1 и Flk-1(KDR, VEGFR-2) и, таким образом, является ингибитором ангиогенеза. У взрослых повышенный уровень sFlt-1 в крови наблюдается при нарушенном ангиогенезе (например, при ПЭ) и играет негативную роль в васкулогенезе, действуя, скорее, как «ловушка рецептора» для VEGF [37].
VEGFR-2 (рецептор, содержащий домен вставки киназы (KDR)/Flk-1) обладает наиболее выраженной активностью тирозинкиназы и, соответственно, проангиогенной активностью, чем VEGFR-1, имеет молекулярную массу 200–230 кДа, связывается с более высокой аффинностью с VEGF-A и VEGF-E, чем с VEGF-C и VEGF-D.
VEGFR-2 предпочтительно экспрессируется на эндотелиальных клетках кровеносных и лимфатических сосудов, но также имеет слабую экспрессию в гемопоэтических клетках, мегакариоцитах, прогениторных клетках сетчатки, нейронах, остеобластах, протоковых клетках поджелудочной железы, опухолевых клетках. Связывание VEGF с VEGFR-2 запускает сигнальный каскад, который ведет к ослаблению межклеточных соединений, дестабилизации цитоскелета эндотелиальных клеток, образованию эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) и стимуляции выработки оксида азота (NO) эндотелием, что вызывает вазодилатацию и повышение сосудистой проницаемости.
VEGFR-3 (Fms-подобная тирозинкиназа 4 (Flt-4)) имеет молекулярную массу 195 кДа, стимулирует морфогенез сети лимфатических сосудов во время эмбрионального развития, участвует в формировании новых лимфатических сосудов во взрослом организме.
Динамика изменения факторов, регулирующих ангиогенез при беременности
Регуляторы ангиогенеза при физиологическом течении беременности находятся в определенном равновесии. При нормально протекающей беременности уровень PlGF в крови повышается в течение первых двух триместров, что соответствует периоду наиболее активного формирования сосудистой сети плаценты. Динамика повышения концентрации PlGF составляет от значений приблизительно 20 пг/мл в I триместре, достигая максимума, в среднем около 500 пг/мл к 29–32-й неделе беременности [38, 39]. С 32 недель и до родов уровень PlGF значительно снижается; вне беременности его концентрация составляет около нескольких десятков пг/мл [40]. Снижение уровня PlGF в материнской крови к концу беременности связано с уменьшением его продукции синцитиотрофобластом плаценты, а также снижением уровня VEGF в крови вследствие повышения sFlt-1, что ведет к связыванию PlGF с sFlt-1 и снижает его биодоступность [25].
Секреция VEGF остается практически постоянной на протяжении беременности и постепенно снижается в течение III триместра [41, 39]. Уровень sFlt-1 в крови увеличивается в течение беременности, достигая максимальных показателей (в 57,3 раза больше по отношению к показателям вне беременности) в III триместре. Уровень растворимой формы VEGFR-2 (sFlk-1) снижается в течение беременности; в III триместре его уровень в 2,5–2,9 раз ниже, чем вне беременности [39]. Уровень циркулирующего sFlt-1 постепенно увеличивается с начала беременности до родов (с 500 пг/мл в I триместре до 2000 пг/мл в III), с максимальным увеличением в последние 2 месяца беременности [38]. Быстрое снижение уровня sFlt-1 в материнской крови после родов свидетельствует, что плацента является основным источником sFlt-1. Вне беременности концентрация sFlt-1 ниже 100 пг/мл [35].Выявлена взаимосвязь между уровнем факторов, регулирующих ангиогенез и сроком наступления родов, что свидетельствует об их потенциальном значении для прогнозирования срока родоразрешения. Низкий уровень PlGF, высокий уровень sFlt-1 и высокое соотношение sFlt-1/PlGF значительно чаще выявлялись при родах на 37–38-й неделе беременности, реже на 39–40-й неделе беременности и практически не определялись при родах на 41-й неделе беременности и позже [42].
Сбалансированное взаимодействие VEGF, PlGF, VEGF-R-1 определяет смену ангиогенеза в ворсинах от преимущественно разветвляющего типа (определяет быстрый рост плаценты в I–II триместрах) к неразветвляющему (увеличение длины капилляров для образования терминальных ворсин в III триместре), что является отражением генетически детерминированной регуляции динамики изменения их уровней в крови в различные сроки гестации при нормальной беременности. VEGF-A обеспечивает формирование разветвленной капиллярной сети в I, II триместрах беременности, а с 24-й недели беременности неразветвленный ангиогенез становится доминирующим механизмом развития плацентарных сосудов, что опосредовано PlGF и рецептором VEGFR-1 [3].
Факторы, регулирующие ангиогенез при осложнениях беременности
Баланс между секрецией VEGF-A и PlGF может регулироваться напряжением кислорода. Так, экспрессия VEGF и его рецепторов как in vivo, так и in vitro возрастает в условиях гипоксии. Противоположное влияние оказывает гипоксия на экспрессию PlGF [41]. Нарушение развития плаценты создает в тканях провоспалительную и относительную гипоксическую среду с высоким сопротивлением и турбулентной плацентарной перфузией. В ответ на гипоксию трофобласт подвергается апоптозу и снижается продукция PlGF. Эти изменения прогрессируют в родах [43].
Из-за нарушения плацентарной перфузии вследствие неполноценного ремоделирования спиральных артерий у женщин с ПЭ уровень sFlt-1 в крови увеличивается, а уровень PlGF уменьшается [33]. Уровень PlGF также снижается при беременности, осложненной гестационной артериальной гипертензией [44], и при преждевременных родах [45]. При потерях беременности на ранних сроках установлено снижение уровней PlGF и sVEGF-R1 в крови, что связывается с дисбалансом факторов ремоделирующих матрикс: (матриксных металлопротеиназ, ММП) и их тканевых ингибиторов (ТИМП), что создает микроокружение, недостаточное для адекватного сроку беременности ангиогенеза [46].
Снижение PlGF в крови является следствием синергичного действия двух факторов: уменьшения экспрессии PlGF в плаценте из-за чрезмерной плацентарной гипоксии и уменьшения свободного PlGF, что обусловлено повышенным синтезом sFlt-1. Вследствие этого для прогнозирования ПЭ определение соотношения sFlt-1/PlGF является более эффективным, чем только PlGF [29]. Тяжесть ПЭ коррелирует с повышением уровня sFlt-1 и снижением уровня PlGF в крови беременной. Аналогичная тенденция наблюдается при ЗРП. При высоком сопротивлении в маточных сосудах по данным допплерографии и повышенном соотношения sFlt-1/ PlGF показатель специфичности для прогнозирования поздней формы ЗРП составляет 98% [47].
Как и при ПЭ, при ЗРП, начиная с ранних сроков беременности, выявляется снижение уровней VEGF и PlGF в материнской крови [7], что свидетельствует об общих патофизиологических механизмах этих осложнений беременности. Однако для ЗРП не характерны выраженная системная материнская эндотелиальная дисфункция, гипертензия и чрезмерно высокая степень повышения sFlt-1 и снижения PlGF, как при ПЭ [3]. По-видимому, преодоление определенных пороговых уровней концентраций ангиогенных факторов в крови ведет к дисбалансу ангиогенеза, является следствием неблагополучия в плаценте и сигнализирует о развитии системной дисфункции эндотелия с клиническими проявлениями ПЭ.
Установлено, что масса плаценты положительно коррелирует с уровнем PlGF [48]. Положительная корреляция также выявлена между уровнями VEGF, PlGF и sFlt-1 в материнской периферической крови и с экспрессией каждого из этих факторов в плацентарных лизатах [49]. Экспрессия VEGF в синцитиотрофобласте и его содержание в крови снижены у женщин с ПЭ. Понижение уровня свободного VEGF в периферической крови женщин с ПЭ, вероятно, является результатом увеличения sFlt-1 как в синцитиотрофобласте, так и в материнской крови [50]. Данные ex vivo демонстрируют значительно меньшее количество мРНК PlGF в плацентах женщин при ПЭ по сравнению с нормальным контролем [51].
Таким образом, нарушение баланса факторов ангиогенеза обусловливает антиангиогенное состояние с угнетением роста плацентарных сосудов, стимулирует пролиферацию цитотрофобласта, подавляет инвазию трофобласта во II триместре, усугубляет плацентарную ишемию, индуцирует эндотелиальную дисфункцию, клинически манифестируя в III триместре в виде ПЭ, ЗРП, преждевременных родов.
Значение факторов, регулирующих ангиогенез для акта родов
Неблагоприятный исход беременности может иметь место также у женщин с клинически неосложненным ее течением. В связи с этим представляет интерес изучение особенностей васкуло/ангиогенеза у таких пациенток. Результаты последних исследований показывают, что женщины с доношенным, нормально развитым плодом, чьи роды осложнились острой интранатальной гипоксией плода, имеют значимо низкие средние уровни PlGF по сравнению с женщинами с неосложненными самопроизвольными родами [52].
Уровень PlGF, исследованный в материнской крови до родов, ниже у пациенток с такими неблагоприятными перинатальными исходами, как низкая оценка по шкале Апгар, неонатальный ацидоз, необходимость наблюдения в палате интенсивной терапии новорожденных [53]. Bowe S. et al. показали, что более низкий уровень PlGF в крови, выявленный до родов, и значимо более высокое соотношение
sFlt-1/PlGF связаны с неблагоприятным исходом родов, за который они считали экстренное оперативное родоразрешение в связи с развившимся дистрессом плода. Отмечается, что в исследование включались здоровые беременные, а пациентки с ПЭ и ЗРП были исключены, и, таким образом, измененные показатели содержания ангиогенных факторов не могут быть обусловлены наличием таких пациенток в когорте исследования [54].
При маточных сокращениях во время активной фазы родов на 60% снижается маточно-плацентарная перфузия, вызывая преходящую гипоксемию у плода. Здоровый доношенный плод с нормально развитой плацентой приспосабливается за счет активации периферического хеморефлекса, особенностей собственного кровообращения и фетального гемоглобина. При неполноценности плацентарного ангиогенеза высокое сопротивление и турбулентность кровотока усиливают дефицит перфузии, что сопровождается глубоким нарушением оксигенации плода, которое он не может компенсировать физиологическими механизмами, вследствие чего испытывает гипоксию. В результате повторяющихся и продолжительных маточных сокращений с частичной окклюзией маточно-плацентарных сосудов развиваются гипоксически-реперфузионное повреждение и окислительной стресс в плаценте, приводящий к высвобождению воспалительных цитокинов и факторов, ингибирующих ангиогенез [55, 56]. Усиленный апоптоз трофобласта под действием гипоксии сочетается со снижением продукции PlGF в родах [43].
Во время родов в ряде исследований установлено снижение содержания ангиогенных факторов в крови матери. При инициации акта родов, даже при неосложненном его течении, уровень PlGF в крови матери снижается на 25%, что указывает на постепенное ухудшение плацентарной функции и подтверждает существенное влияние родовой деятельности на плацентарную перфузию [43]. Уровень PlGF значительно выше у женщин с самопроизвольными родами, по сравнению с беременными, которые были родоразрешены путем кесарева сечения [57]. Содержание PlGF, выделенного из плаценты женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути, значительно ниже, чем в плацентах женщин, родоразрешенных путем планового кесарева сечения [58]. Согласно исследованию Dunn L. et al., уровень PlGF ниже у женщин, которым проводилась индукция родов, по сравнению с женщинами, вступившими в роды самопроизвольно. Авторы объясняют это тем, что при индукции имеет место продолжительный прелиминарный период, латентная фаза родов более длительная, и это подтверждает факт постепенного снижения плацентарной функции на фоне маточных сокращений [43].
Mizuuchi M. et al., используя in vitro модель повреждения ишемии-реперфузии на культурах клеток плаценты человека, показали, что повторяющиеся эпизоды гипоксии с последующей оксигенацией снижают мРНК PlGF в клетках на 50% [59]. Авторы также предполагают, что окислительный стресс наряду с гипоксией способствует высвобождению sFlt-1, что приводит к значительному снижению уровня циркулирующего PlGF за счет его связывания [59]. Результаты, полученные Dunn L. et al., могут свидетельствовать, что периодическая плацентарная гипоксия и последующее ишемически-реперфузионное повреждение, которое происходит во время родов, приводит к значительным изменениям в функции трофобласта и последующему снижению экспрессии и секреции PlGF [43]. Низкий уровень PlGF у женщин, чьи роды осложнились острой гипоксией плода, свидетельствует, что в течение беременности имело место нарушение ангиогенеза плаценты, реализующееся снижением ее способности обеспечивать обмен кислорода во время схваток. Результаты морфологических исследований подтверждают данное заключение. При исследовании ткани плаценты у женщин, перенесших в родах острую гипоксию плода, обнаружено преобладание умеренной и тяжелой степени гиперкапилляризации терминальных ворсин. Гиперкапилляризация ворсин (разветвленный ангиогенез), наряду с увеличением количества синцитиокапиллярных мембран, увеличением количества синцитиальных узелков (признак Тенни–Паркера), отражают компенсаторные изменения плаценты, которые развиваются в условиях гипоксии. В родах наступает декомпенсация с развитием гипоксии плода [60].
Интересно, что у первородящих женщин уровень PlGF ниже, чем у повторнородящих [43, 61]. Bdolah Y. et al. установили, что первородящие имеют значительно более высокие уровни sFlt-1 и, следовательно, более высокое соотношение sFlt-1/PlGF по сравнению с повторнородящими женщинами [62]. Известно, что первая беременность чаще, чем повторная, ассоциируется с различными неблагоприятными исходами, включая ПЭ, ЗРП и гипоксию плода [63]. Litwin S. et al. продемонстрировали на модели у животных, что у повторнородящих мышей, по сравнению с первородящими, значительно эффективнее проходили процессы инвазии трофобласта и наблюдалась сбалансированная экспрессия VEGF [64]. Данные свидетельствуют об ангиогенном дисбалансе, который чаще наблюдается при первой беременности, что аналогично наблюдающемуся у пациенток с осложнениями, связанными с плацентарной дисфункцией [65–67].
Установлено, что уровень PlGF коррелирует с показателями интранатальной кардиотокографии (КТГ), которая отражает состояние плода, его оксигенацию в родах. Tanaka H. et al. пришли к выводу, что существует связь между низким уровнем PlGF и сомнительным и патологическим типами КТГ [58]. Dunn L.и Kumar S. показали, что у женщин с патологическим типом КТГ в родах отмечался более низкий уровень PlGF [52].
Вышеперечисленные данные свидетельствуют, что в зависимости от степени выраженности нарушения ангиогенеза плаценты могут во время беременности не проявляться, как явные клинические патологии, такие как ЗРП и ПЭ. Однако в результате воздействия триггерных факторов в родах, в частности, таких, как длительное течение родов, родостимуляция окситоцином, маточная тахисистолия [68], неполноценность ангиогенеза может реализоваться в декомпенсацию плацентарного кровообращения, что проявляется острой гипоксией плода [50].
Заключение
Таким образом, плацентарная недостаточность, формирующаяся в первой половине беременности, в зависимости от тяжести и варианта нарушений может проявлять себя разными осложнениями во второй половине беременности и в родах. Уровень ангиогенных факторов в периферической крови матери коррелирует с морфофункциональным состоянием плаценты. Вероятно, профиль ангиогенных факторов отражает ту или иную клиническую картину плацентарной недостаточности, в том числе скрытую форму, которая не проявляется во время беременности, но ведет к гипоксии плода в родах.