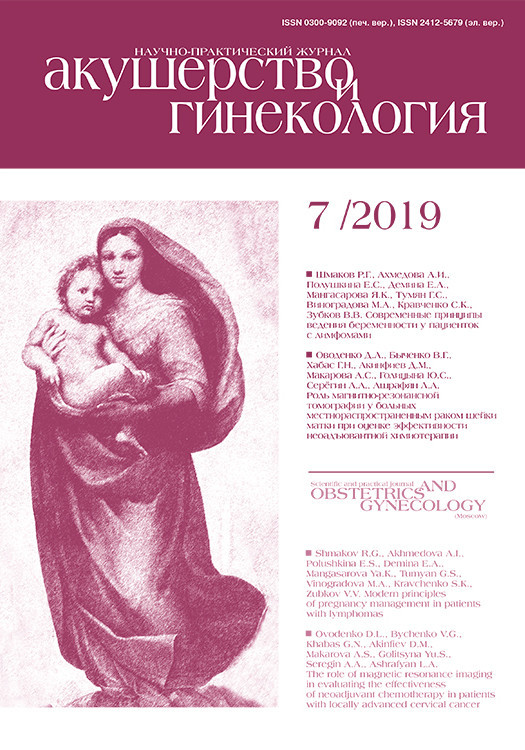Стремительное развитие инновационных ультразвуковых технологий, обеспечивающих все большую детализацию, способствовало широкому распространению технологии ультразвуковой эластографии, или эхоэластографии (Эхо-ЭГ) (Elastography, Sonoelastography). Данная методика основана на визуализации тканей и органов с отображением различия эластичности (упругости) неизмененных и патологических тканей и определении локальной деформации при дозированной компрессии или вибрации. Эластичность ткани классифицируется по смещению и деформации структуры в ответ на нагрузку или в результате анализа появляющихся при этом сдвиговых волн. В связи с гетерогенной упругостью ткани могут испытывать различную степень деформации. Именно поэтому на получаемом врачом изображении при сдавливании тканей, в зависимости от степени их жесткости, более мягкие (эластичные) ткани деформируются в более сильной степени, а плотные (упругие) – в меньшей [1, 2]. Физической основой эластографии является модуль английского физика XIX в. Томаса Юнга, характеризующий свойства мягких тканей сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации [2].
Применяемые в настоящее время методики эластографии можно классифицировать на две разновидности: компрессионную (стрейновую, квазистатическую (статическую)) и динамическую эластографию. Физически компрессионная (стрейновая) эластография лежит в основе только качественной характеристики распределения упругости в тканях. Единственным количественным (относительным) показателем является только измерение соотношения эластичности двух областей – коэффициент деформации – SR (strain ratio). При использовании компрессионной эластографии информация может быть представлена либо графическим путем, либо с помощью цветового картирования. Величина стрейна выше там, где эластичность ткани ниже [2].
Динамическая эластография может быть осуществлена в результате применения: механического импульсного или вибрационного давления с использованием сдвиговых волн, возникающих при этом (транзиентная эластография – transient elastography, TE); акустического радиационного давления (ARFI), создаваемого длинным ультразвуковым сигналом и оценкой получающихся продольных деформаций; акустических радиационных импульсов давления (ARFI), создаваемых ультразвуковыми сигналами, сфокусированными на разную глубину, с использованием оценки скорости сдвиговых волн («эластография сдвиговой волны», shear wave elastography, SWE) [2].
В настоящее время в общей ультразвуковой практике используют точечную и двумерную эластографию сдвиговой волной [3]. Точечная эластография сдвиговой волной (point shear wave elastography) позволяет оценивать скорость сдвиговой волны в зоне интереса, которую под контролем серошкальной эхографии можно установить в интересующий участок ткани, органа или образования. При двумерной эластографии сдвиговой волной можно получить информацию в зоне интереса (цветовом окне), где разным диапазоном цветов картируются участки с различными значениями скорости сдвиговой волны (или разнообразными значениями модуля Юнга). Цвет в зоне интереса определяют именно цифровые значения указанных параметров [4].
Согласно данным литературы, Эхо-ЭГ все шире внедряется в гинекологическую, онкогинекологическую и урогинекологическую практику. M. Zhang. и соавт. [5] приводят убедительные данные о перспективности Эхо-ЭГ сдвиговой волны при оценке эффективности лечения аденомиоза и лейомиомы, основываясь на том, что скорость распространения сдвиговой волны ниже в интактном миометрии. М. Frank и соавт. [6] также заявляют о том, что Эхо-ЭГ может быть полезна в определении хирургической тактики при таких заболеваниях матки, как миома и аденомиоз. Установлено, что с помощью Эхо-ЭГ возможно точнее, чем при эхографии в В-режиме (р=0,0265) и при использовании энергетического допплеровского картирования (р=0,0153), диагностировать такие внутриматочные патологии, как полип эндометрия и субмукозная миома матки [7].
Результат работы M. Xie и соавт. [8] свидетельствует о том, что промежностную Эхо-ЭГ можно использовать для оценки состояния мышц тазового дна до и после цикла упражнений Кегеля (p=0,025). Помимо этого, авторы продемонстрировали возможности данного метода при оценке эластичности шейки матки после электрохирургической эксцизии в аспекте перспективности успешного вынашивания последующей беременности [9], а также при мониторинге состояния фаллопиевых труб при консервативной терапии трубной беременности метотрексатом [10].
Опубликованные на сегодняшний день данные литературы указывают на высокую диагностическую ценность Эхо-ЭГ при диагностике новообразований женских репродуктивных органов. Известно, что многие образования яичников содержат солидный или кистозный компоненты, за счет чего злокачественные и доброкачественные опухоли для методов визуальной диагностики могут быть трудно различимыми. Гажоновой и соавт. [11] было установлено, что злокачественные новообразования яичников при Эхо-ЭГ отображаются как более жесткие. Это дает дополнительную информацию о характере структурных изменений в яичнике, недоступную при обычном трансвагинальном ультразвуковом исследовании за счет оценки эластичности ткани.
M. Fawzy и соавт. [12] использовали компрессионную эластографию для диагностики эндометриоза послеоперационного рубца на передней брюшной стенке у 23 пациенток, что в последующем было подтверждено результатами патогистологического исследования.
Неинвазивная эластографическая оценка эластичности тканей в режиме реального времени позволила С.О. Чуркиной [13], В.Е. Гажоновой и соавт. [14] включить Эхо-ЭГ в диагностику злокачественных опухолей матки.
Ультразвуковая эластография относится к перспективным методам диагностики, которые позволяют достаточно эффективно определить наличие злокачественного новообразования в шейке матки. Так, R. Lu и соавт. [15] было показано, что использование коэффициента SR позволяет более точно оценить механические свойства ткани, чем при использовании балльной системы эластичности (elasticity score). Значения SR при злокачественном поражении шейки матки были значительно выше, чем при доброкачественном (диапазон 4,85–8,91 против 0,62–4,50; р<0,01).
В исследовании O.A. Bakay и T.S. Golovko [16] чувствительность Эхо-ЭГ при обнаружении инвазии рака шейки матки в параметральную клетчатку составила 91,4%, специфичность – 96,2%, точность – 93,5%; при инвазии в стенки влагалища показатели были равны – 83,3; 88,4 и 85,4% соответственно, а при распространении опухоли на тело матки – 85,3; 95,2 и 88,7% соответственно. По данным S. Mabuchi и соавт. [17], SR в опухолевой ткани был значительно выше, чем в неизмененной, и в среднем составлял 3,4. При этом после проведения лучевой терапии он снижался до уровня нормальной ткани (около 1,0). Также авторы отмечали, что при наличии остаточных признаков опухоли данный коэффициент не изменялся [17].
В литературе имеются сведения об успешном применении Эхо-ЭГ при диагностике эктопической беременности. С.О. Чуркиной и соавт. [18] были обследованы 19 пациенток с указанной патологией: 18 – с трубной и 1 – с брюшной нидацией плодного яйца. Во всех наблюдениях внематочная беременность была представлена округлым жестким образованием, располагавшимся между телом матки и яичником и картировавшимся синим цветом в центре, с четким высокоэластичным ободком красного цвета на фоне окружавших его эластичных тканей зеленого цвета. Данный эластографический тип назван автором «голубой глаз». В работе описано 5 наблюдений внематочной беременности, визуализация которых в В-режиме и при допплерографии не представлялась возможной (4 трубные и 1 брюшная). Чувствительность метода и предсказательная ценность отрицательного результата составили 100,0%, точность 96%, предсказательная ценность положительного результата – 95%. Во всех наблюдениях внематочная беременность эластографически картировалась одинаково.
И.А. Краснова и соавт. [19] считают, что эластография может способствовать дифференциальной диагностике состояния маточных труб при наличии рубцового их поражения, а также эктопической локализации плодного яйца. Также возможна дифференциальная диагностика нарушенной и прогрессирующей трубной беременности. Компрессионная эластография может быть использована как дополнительный метод обследования наряду с допплерографией и трехмерным сканированием в диагностике трубной беременности.
Xie M. и соавт. [20] в своей работе продемонстрировали эффективность Эхо-ЭГ при контроле лечения трубной беременности метотрексатом (р<0,001).
В доступной литературе имеются сведения, в которых приводятся данные об успешном применении Эхо-ЭГ при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Так, A. Stanziano и соавт. [21] указывают, что при оценке шейки матки с помощью данного метода производится отбор пациенток для предварительного расширения цервикального канала перед переносом эмбрионов в полость матки с целью повышения эффективности программ ВРТ.
В последние годы накоплен опыт применения Эхо-ЭГ шейки матки при решении проблем, которые связаны с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН). F. Öcal F. и соавт. [22] установили, что Эхо-ЭГ является достаточно надежным методом оценки состояния шейки матки и прогнозирования ИЦН при последующей беременности на этапе планирования. У пациенток с ИЦН в анамнезе при Эхо-ЭГ внутренняя часть шейки матки отображалась на мониторе аппарата как более мягкая по сравнению с наружной.
В последнее время в литературе накапливается опыт по применению Эхо-ЭГ в акушерской практике. Так, G. Seliger и соавт. [23] после проведения точечной и двухмерной Эхо-ЭГ сдвиговой волной у 33 беременных с одним и более рубцом после кесарева сечения пришли к выводу, что данная методика может быть полезна в оценке состояния рубца на матке (р<0,001).
S. Wozniak и соавт. [24] обследовали 243 женщины в сроке беременности 18–22 недели. Авторы оценивали плотность рубца с помощью цветовой шкалы. По данным Эхо-ЭГ, у 29 пациенток рубец был оценен как мягкий. Из этой группы у 24 подтвердилось наличие дефекта во время операции (чувствительность составила 86%, специфичность – 94%). У 188 пациенток рубец был оценен как плотный. В этой группе чувствительность составила 96%, а специфичность – 47%. Таким образом, в данной работе было показано, что Эхо-ЭГ может стать полезным методом в выявлении пациенток группы высокого риска наличия дефекта рубца на матке после операции кесарева сечения. Аналогичные результаты по эффективности Эхо-ЭГ в оценке состояния рубца на матке после операции кесарева сечения представлены и в исследовании К.Ф. Юсупова и соавт. [25]. А.М. Приходько, О.Р. Баев и соавт. [26] с помощью компрессионной Эхо-ЭГ обнаружили, что, несмотря на отсутствие различий в толщине миометрия в области рубца на матке, в послеоперационном периоде наиболее высокие показатели жесткости ткани в этой области отмечались при двухслойной технике зашивания матки.
В литературе имеется небольшое количество публикаций, посвященных взаимосвязи эластических свойств плаценты с различными патологическими состояниями во время беременности. T. Hasegawa и соавт. [27] обнаружили, что жесткость плаценты коррелирует как с предполагаемой массой плода, так и с массой новорожденного, что делает Эхо-ЭГ дополнительным методом диагностики внутриутробного состояния плода и прогнозирования задержки внутриутробного роста плода (ЗРП). H. Arioz Habibi и соавт. [28] рекомендуют рутинное применение Эхо-ЭГ при диагностике ЗРП, наряду с ультразвуковым исследованием в В-режиме и допплерометрией. T. Ohmaru и соавт. [29] с помощью Эхо-ЭГ установили повышение жесткости плаценты при сахарном диабете, гипертензивных расстройствах у беременных женщин, ЗРП. Данные выводы соответствуют результатам исследования E. Karaman и соавт. [30], которые выявили достоверно значимое повышение жесткости плаценты при преэклампсии по сравнению со здоровыми беременными. В свою очередь, B. Alan и соавт. [31] установили, что посредством измерения скорости распространения сдвиговой волны в плаценте возможно устанавливать степень тяжести преэклампсии (р<0,001).
С помощью Эхо-ЭГ плаценты методом акустического радиационного давления (ARFI) при резус-иммунизации и водянке плода были получены наиболее высокие показатели эластичности плаценты. В свою очередь, при резус-иммунизации без водянки плода и при нормально протекающей беременности отмечали схожие средние показатели. O. Cetin и соавт. [32] предполагают, что повышение показателей при Эхо-ЭГ ARFI плаценты может быть предиктором неблагоприятного исхода беременности при резус-конфликтной беременности, наряду с показателями допплерометрии в средней мозговой артерии плода.
Как видно из представленных выше данных, при патологически протекающей беременности с помощью Эхо-ЭГ плаценты можно констатировать изменения ее эластических свойств. Последнее подтверждается в исследовании S. Wu и соавт. [33], в котором было показано отсутствие статистически значимой разницы в скорости распространения сдвиговой волны в плаценте во II и III триместрах беременности в отсутствие какой-либо патологии.
В литературе имеются единичные сведения, посвященные возможности применения Эхо-ЭГ в диагностике врастания и предлежания плаценты. Было показано, что скорость распространения сдвиговой волны выше при предлежании плаценты. Однако в силу малого размера выборки (43 пациентки) авторам не представилось возможным определить статистически значимые различия в эластографических показателях при предлежании плаценты с наличием аномального прикрепления плаценты и без такового [34].
За последние несколько лет появляется все больше публикаций, посвященных Эхо-ЭГ шейки матки для прогнозирования риска развития спонтанных преждевременных родов и при родовозбуждении (прогнозировании исхода) [35–60].
Известно, что созревание шейки матки при нормально протекающей беременности связано с дисперсией и постепенной деполимеризацией коллагена, вызванными увеличением количества металлопротеина в матрице и уменьшением содержания тканевых ингибиторов протеиназ, приводящими к увеличению осмотического давления в тканях шейки матки с последующим отеком и размягчением. Подобное размягчение необходимо для того, чтобы сокращения миометрия впоследствии привели к укорочению и сглаживанию шейки матки и раскрытию маточного зева в процессе родов [35]. Если указанные изменения происходят раньше достижения доношенного срока беременности или, наоборот, не происходят вовсе, то отмечаются преждевременные или запоздалые роды соответственно [36]. В настоящее время ультразвуковой метод для прогнозирования преждевременных родов или предикции исхода родовозбуждения основывается на измерении длины шейки матки [37]. Однако качество ультразвукового исследования и, следовательно, точность диагностики могут значительно повышаться при использовании эластографии.
С помощью Эхо-ЭГ было установлено, что плотность шейки матки во время беременности снижается по мере увеличения срока беременности и укорочения длины шейки, а также то, что основные изменения происходят в области внутреннего зева шейки матки [38]. Эти данные совпадают с результатами, полученными другими исследователями [39], которые показали, что физиологические изменения шейки матки во время беременности приводят к ее размягчению. Этот процесс разные исследователи объясняли как ремоделированием внеклеточной матрицы (то есть коллагена) [35], так и увеличением количества гидрофильных гликозаминогликанов [40]. Подобными механизмами объясняют также изменения шейки матки у женщин группы высокого риска по преждевременным родам и невынашиванию беременности. В свою очередь, T. Fuchs и соавт. [41] установили статистически значимую корреляцию между длиной шейки матки и эластичностью ее передней губы (p=0,33). Эластографическая картина шейки матки не является гомогенной. K. Preis и соавт. [42], например, выявили, что ткань шейки матки имеет наивысшую плотность в средней части задней губы. F. Molina и соавт. [43] опубликовали похожие результаты, отметив, что самый плотный участок – внутренняя часть задней губы. Авторы полагали, что это связано с наибольшей отдаленностью этих участков от датчика, и, следовательно, при компрессионной Эхо-ЭГ на них оказывается давление наименьшей силы, а значит, и компрессия тканей бывает намного меньше по сравнению с тканями, которые локализованы в непосредственной близости к датчику.
Исследования беременных с помощью эластографии сдвиговой волной с эластометрией свидетельствуют, что скорость распространения сдвиговых волн в норме снижается с увеличением срока беременности [38] и что указанная методика может стать ценным диагностическим инструментом для объективной количественной оценки эластичности шейки матки [44].
T. Ono и соавт. [45] применили Эхо-ЭГ сдвиговой волной у 280 беременных женщин и обнаружили корреляцию между сроком беременности и эластичностью шейки матки. Также авторы установили, что эластичность ткани в области интереса на передней губе шейки ближе к внутреннему зеву значительно отличается от области ближе к наружному зеву. Кроме того, было отмечено статистически значимое различие в процессе размягчения шейки матки при одноплодной и многоплодной беременности. Однако данные показатели не отличались у первородящих и повторнородящих [45]. M. Muller и соавт. [46] обнаружили, что скорость распространения сдвиговой волны в шейке матки снижается при спонтанном развитии родовой деятельности в сроке беременности 24–35 недель. Областью интереса была нижняя часть передней губы шейки матки. Авторы обнаружили, что скорость распространения сдвиговой волны в шейке матки снижается при спонтанном развитии родовой деятельности. S. Woźniak и соавт. [47] исследовали 109 пациенток в сроке беременности 18–22 недели и длиной шейки матки меньше 25 мм и пришли к выводу, что с помощью Эхо-ЭГ области внутреннего зева возможно прогнозировать спонтанные преждевременные роды [47]. G. Meyberg-Solomayer и соавт. [48] установили отличие в показателях коэффициента эластичности в разных участках шейки матки в сроке беременности 17–41 неделя. Так, с увеличением срока беременности и баллов при оценке по шкале Бишопа передняя губа становится мягче, в то время как для задней губы с увеличением возраста, паритета и индекса массы тела пациентки характерно повышение коэффициента эластичности. L. Sabiani и соавт. [49] проводили Эхо-ЭГ во время рутинного ультразвукового исследования в каждом триместре беременности. Авторы установили, что с помощью Эхо-ЭГ шейки матки в I триместре представляется возможным выявлять пациенток группы высокого риска по неблагоприятному исходу беременности и преждевременным родам (при индексе эластичности (EI) ≤0,38). Вместе с этим констатировано, что представленные данные не позволяют утверждать, что низкие значения индекса эластичности (EI) соответствуют пальпаторно мягкой шейке. Сложности в интерпретации показателя индекса эластичности (EI) шейки матки возникают ввиду отсутствия референсной ткани, в отличие от других органов (например, щитовидная железа, молочная железа), где низкие показатели индекса соответствуют жестким (пораженным) тканям, а высокие – соответственно мягким (неизмененным, то есть здоровым). Мягкость шейки матки при Эхо-ЭГ в доношенном сроке беременности свидетельствует о зрелости шейки матки при оценке по шкале Бишопа и большей вероятности успешного исхода родовозбуждения. Однако до достижения доношенного срока данный показатель является предиктором преждевременных родов. L. Hee и соавт. [50] и T.Fuchs и соавт. [41] не обнаружили связь между эластическими характеристиками шейки матки и ее длиной.
E. Hernandez-Andrade и соавт. [38] в результате проведенного исследования пришли к следующим выводам: с увеличением срока беременности происходит непрерывное снижение эластичности шейки матки (при этом измерения лучше проводить в области внутреннего зева шейки матки) с уменьшением ее длины. Размягчение шейки матки в большей степени коррелирует с ее укорочением, чем со сроком беременности. Исследователи отметили связь между показателем эластичности и паритетом родов, а также наличием преждевременных родов в анамнезе. A. Fruscalzo и соавт. [51] доказали высокую воспроизводимость оценки плотности различных участков шейки матки двумя различными операторами, тогда как в исследовании F. Molina и соавт. [43] этот результат не подтвердился. По данным S. Agarwal и соавт. [52], при оценке скорости распространения сдвиговой волны шейки матки была показана наибольшая чувствительность и специфичность (96,7% и 87% соответственно) при прогнозировании риска преждевременных родов. Примечательно, что также констатирована корреляция с увеличением размеров надпочечников плода, что было расценено как возможный предиктор преждевременных родов. V. Oturina и соавт. [53], применив компрессионную Эхо-ЭГ, установили корреляцию между коэффициентом деформации, рассчитанным в области интереса в середине передней губы шейки матки, и развитием спонтанных преждевременных родов. Прогностические ценности измерения длины шейки матки и коэффициента деформации в обозначенной области интереса были сопоставимы. При этом сочетание этих параметров позволяло сделать более точный прогноз относительно вероятности преждевременных родов. Авторы пришли к заключению, что структурные изменения шейки матки происходят диффузно, а не локализуются в определенных слоях или участках.
В недавно опубликованном исследовании E. Hernandez-Andrade и соавт. [54] установлено, что мягкая шейка матки повышает риск преждевременных родов в сроках до 34 и до 37 недель, независимо от длины шейки матки и наличия преждевременных родов в анамнезе. Также авторы выяснили, что скорость распространения сдвиговой волны (СРСВ) в области внутреннего зева выше, чем в области наружного зева. При этом наблюдается тенденция, что с увеличением срока беременности СРСВ в шейке матки постепенно снижается. У женщин с мягкой шейкой матки в 3,3 раза чаще отмечается ее укорочение и в 1,5 раза возрастает риск преждевременных родов. Наличие мягкой шейки матки при ее неизмененной длине повышает риск преждевременных родов до 37 недели в 4,5 раза и риск преждевременных родов до 34 недели в 21 раз. При сочетании короткой и мягкой шейки матки риск преждевременных родов до 37 недели повышается в 18 раз, а до 34 недели – в 120 раз.
D. Kaouther и соавт. [55] пришли к выводу, что получаемый с помощью компрессионной Эхо-ЭГ индекс эластичности шейки матки при родовозбуждении простагландинами коррелирует с оценкой по шкале Бишопа. Указанные выше авторы, наряду с S. Gultekin и соавт. [56], в ходе их исследований проводили компрессионную Эхо-ЭГ шейки матки (4–5 циклов компрессии-декомпрессии датчиком области интереса на передней и задней губах шейки матки вокруг внутреннего зева, референсный участок – миометрий), а также оценивали зрелость шейки матки по шкале Бишопа у 64 пациенток с доношенным сроком беременности и первыми предстоящими родами. В цитируемых исследованиях для родовозбуждения использовался окситоцин. Однако авторам не удалось получить статистически значимый результат.
M. Swiatkowska-Freund и соавт. [57] впервые отметили взаимосвязь между эластичностью внутреннего зева и исходом родовозбуждения окситоцином. A. Fruscalzo и соавт. [51] отметили возможную пользу от применения Эхо-ЭГ шейки матки, но только для прогнозирования неуспешности родовозбуждения. В свою очередь, S. Pereira и соавт. [58] пришли к заключению, что полученные при Эхо-ЭГ шейки матки данные не могут быть использованы для прогнозирования исхода родовозбуждения и не позволяют судить о временном промежутке от момента начала индукции родов до момента родоразрешения через естественные родовые пути. Данные выводы совпадают с результатом работы L. Sonnier и соавт. [59]. Другие авторы отметили взаимосвязь показателя эластографического индекса и успешного исхода родовозбуждения [25]. Мета-анализ A. Londero и соавт. [60] показал, что, несмотря на различия в методиках Эхо-ЭГ, конечных точках исследования и даже в дефинициях успешного исхода родовозбуждения, была обнаружена более высокая диагностическая точность Эхо-ЭГ относительно мануальной оценки зрелости шейки матки по шкале Бишопа. Авторы пришли к заключению, что комбинирование эластографии и рутинного эхографического исследования с цервикометрией является перспективным и в будущем позволит лучше прогнозировать исход родовозбуждения, чем применяемая в настоящее время повсеместно мануальная оценка зрелости шейки матки по шкале Бишопа. Полагают, что благодаря этому станет возможным снизить затраты на госпитализацию и повысить уровень удовлетворенности пациенток.
Заключение
Таким образом, Эхо-ЭГ, являясь методом качественного и количественного анализа механических свойств тканей, все шире будет применяться в повседневной клинической практике во многих областях медицины, в том числе в акушерстве и гинекологии. В результате анализа опубликованных данных литературы можно предположить, что использование Эхо-ЭГ при исследовании шейки матки для прогнозирования исхода родовозбуждения и риска преждевременных родов является перспективным методом диагностики, который позволит улучшить материнские перинатальные исходы и, соответственно, будет способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи. Однако на сегодняшний день отсутствует стандартизация методики исследования, имеются различия диагностического оборудования разных фирм-производителей и программ для анализа данных. Все вышесказанное свидетельствует о том, что данный вопрос является недостаточно освещенным и требует дальнейшего изучения.