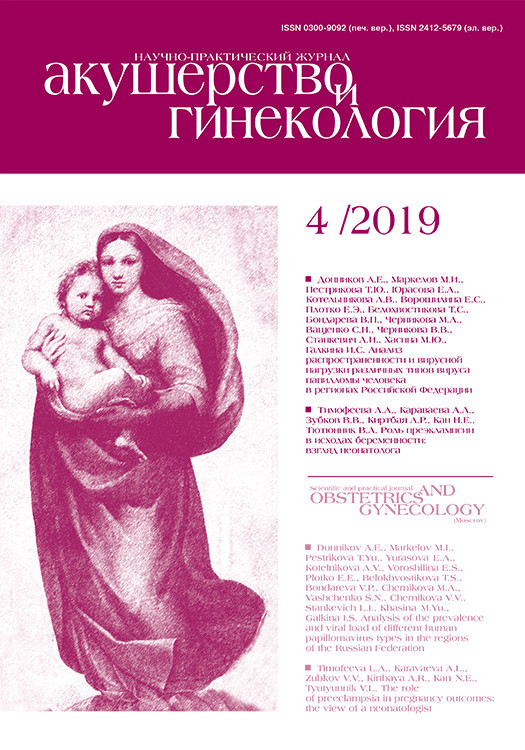В течение последних 10 лет в Российской Федерации отмечается неуклонный рост заболеваемости раком шейки матки. Значимость вируса папилломы человека (ВПЧ) в этиологии рака этой локализации давно доказана. Понимание особенностей факторов, потенцирующих персистенцию вирусов в эпителии шейки матки, и связанного с ней процесса развития патологии данной области определяет тактику лечения заболеваний, ассоциированных с ВПЧ [1]. Особое место в предупреждении развития рака шейки матки занимает первичная профилактика, базирующаяся на вакцинации против ВПЧ. Вакцины против ВПЧ применяются в реальной клинической практике с 2006 (квадривалентная) и 2007 (бивалентная) гг., в результате чего уже получены результаты их эффективности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что отражено в данной публикации.
Микробиом и ВПЧ
Относительно мало известно о механизмах, связанных с клиренсом или персистенцией ВПЧ. Бактериальный вагиноз ассоциируется с задержкой клиренса вируса и с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN). Это позволяет предположить, что микробиом, обедненный Lactobacillus, может играть определенную роль в потенцировании дисплазии [2–5]. В разных исследованиях показано, что три микроорганизма ассоциированы с high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) – Sneathia sanguinegens, Peptostreptococcus anaerobius и Anaerococcus tetradius [6, 7]. В отличие от большинства видов Lactobacillus (L), L. iners не продуцирует H2O2, обладающую антибактериальными и противовирусными свойствами. Более высокая распространенность L. jensenii и L. coleohominis как H2O2-продуцирующих лактобацилл выявлена у женщин с low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) по сравнению с HSIL, предполагающая, что эти виды могут быть защитными в предотвращении прогрессирования диспластических и в конечном итоге раковых процессов. Было показано, что Lactobacilli spp. обладают цитотоксичностью при совместном культивировании с раковыми клетками шейки матки in vitro, но не с нормальными клетками, независимо от концентрации молочной кислоты. Это подчеркивает взаимодействие между клетками шейки матки, микробиотой и метаболизмом слизистой оболочки [8]. Известно также, что экологические и гормональные факторы модулируют вагинальный микробиом. Кроме того, курение коррелирует с устойчивостью к ВПЧ и CIN, а также с обеднением Lactobacillus и дисбиозом [9].
Оценка эффективности и безопасности вакцинации против ВПЧ
В недавнем обзоре Кокрановского сообщества проведена оценка пользы/риска применения профилактических вакцин против ВПЧ для предотвращения развития предраковых поражений шейки матки и папилломавирусной инфекции (ПВИ), вызванной 16 и 18 типами у девочек подросткового возраста и женщин [10]. В анализ включены данные 26 клинических исследований (КИ) (73 428 участниц). В 10 из них с периодом последующего после вакцинации против ВПЧ наблюдения от 1,3 до 8 лет проводилось исследование защитного эффекта вакцин против ВПЧ в отношении развития CIN/аденокарциномы in situ. Безопасность применения вакцин против ВПЧ была оценена в 23 КИ за период 0,5–7 лет. В анализируемых исследованиях были применены моновалентная (1 КИ), бивалентная (18 КИ) и квадривалентная (7 КИ) вакцины. В большей части КИ вакцинация проводилась женщинам моложе 26 лет, а в 3 КИ были включены женщины 25 лет и старше. В обзоре представлены эффекты при применении хотя бы 1 дозы вакцин.
В результате проведенного анализа авторы обзора пришли к следующим выводам. У молодых женщин в возрасте от 15 до 26 лет с отсутствием ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) до начала исследования или наличием только ВПЧ 16/18 вакцинация против ВПЧ снижает риск персистирующей ВПЧ-16/18-инфекции, высокой степени цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN2 и CIN2+) и аденокарциномы in situ, связанных с типами вакцин. В группе невакцинированных девушек и женщин 15–26 лет без ВПЧ ВКР до вакцинации риск развития случаев ВПЧ-16/18-ассоциированных CIN2+ и CIN3+ составил 164 и 70 на 10 000 соответственно, тогда как в группе вакцинированных (би- или квадривалентной вакцинами) риск составил 2 и 0 на 10 000 для CIN2+ и CIN3+ соответственно.
Менее трех доз могут обеспечить защиту от ВПЧ 16/18 в этой возрастной группе. Не было найдено доказательств того, что одна или две дозы двухвалентной или четырехвалентной вакцины обеспечивают значительную защиту от любого CIN2+ независимо от типов ВПЧ у молодых женщин (от 15 до 26 лет).
Поскольку профилактические вакцины не влияют на уже имеющуюся ПВИ, их применение в группе женщин 15–26 лет, независимо от наличия ВПЧ 16/18 типов, показало умеренную защиту.
В результате проведенного анализа было установлено, что би- и квадривалентная вакцины оказывают одинаковый протективный эффект в отношении ВПЧ-16/18-ассоциированных инфекций и патологии шейки матки. Авторы отмечают, что, несмотря на найденные некоторые преимущества бивалентной вакцины в эффективности против развития CIN2+ и CIN3+ (независимо от типа ВПЧ) среди женщин с исходно отрицательным результатом на ВПЧ ВКР и против CIN3+, независимо от исходного ВПЧ-статуса на момент включения в исследование, это может быть связано с различиями в популяциях наблюдения, включенных в анализируемые исследования, а также с различными серологическими техниками и методами определения ДНК ВПЧ или чуть более выраженной кросс-протективной активностью бивалентной вакцины.
Факты свидетельствуют о том, что три дозы вакцин против ВПЧ, назначаемые женщинам, не зараженным ВПЧ, обеспечивают значительную защиту от CIN2+, связанного с типами 16/18, среди женщин в возрасте от 24 до 45 лет. Менее трех доз вакцины против ВПЧ не обеспечивают защиту как против CIN2+, ассоциированного с ВПЧ 16/18, так и любого CIN2+, независимо от типа ВПЧ.
Наиболее частым видом нежелательных явлений были реакции в месте введения (болевые ощущения, покраснение, отек).
Несмотря на то что во время наблюдения за участницами испытания произошли смертельные случаи, ни один из них не был оценен как связанный с вакцинацией. Больше смертей отмечено после вакцинации женщин среднего возраста. Исследователи посчитали, что эти смерти не связаны с вакцинацией из-за отсутствия кластеризации причин смерти и временнóй зависимости.
Доказательства редкого потенциального вреда, такого как аутоиммунные нарушения, трудно собрать в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ). Выводы этого обзора следует рассматривать в контексте исследований эпиднадзора, которые проводились во всем мире после лицензирования вакцин и продемонстрировали неизменно хороший профиль безопасности, что было рассмотрено Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин (GACVS) ВОЗ неоднократно. Одно французское исследование показало небольшое увеличение числа случаев синдрома Гийена–Барре среди вакцинированных ВПЧ девочек, но это не было подтверждено в семи других исследованиях [10]. Согласно заключению ВОЗ, самая эффективная скрининговая программа не может повлиять на распространение ПВИ, которая остается основной причиной развития онкологической патологии, в то время как профилактика рака шейки матки и/или других заболеваний, вызываемых ВПЧ, является приоритетом общественного здравоохранения. При этом вакцинация не отменяет необходимость проведения цитологического скрининга и регулярных гинекологических осмотров для вторичной профилактики [11].
С 2007 г. в Московской области, так же как и в 27 регионах Российской Федерации, проводится программа «Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека». На протяжении 9 лет в Московской области накоплен наибольший опыт в России по применению вакцины против ВПЧ, привиты более 19 000 девочек-подростков в возрасте 12–17 лет и женщин моложе 45 лет. Из всех привитых 78% девочек вакцинированы четырехвалентной вакциной, а 22% – двухвалентной. На основании анализа статистических отчетов детских гинекологов Московской области сделан вывод о снижении заболеваемости аногенитальными кондиломами в 2015 г. по сравнению с 2009 г. с 14,2 до 6,1 на 100 000 девочек в возрасте от 0 до 17 лет в результате проведенной вакцинации [12].
Вакцинация против ВПЧ после лечения CIN2+
Квадривалентная вакцина демонстрирует свою эффективность в отношении предотвращения развития ПВИ до 45 лет [13].
Несмотря на то что вакцинация против ВПЧ не влияет на уже имеющуюся ПВИ, недавние исследования подтвердили способность вакцинации снижать риск рецидива HSIL после хирургического лечения дисплазий шейки матки на 64,9% [14]. Garland и соавт. опубликовали данные о снижении рецидива ВПЧ-ассоциированных заболеваний после ВПЧ-вакцинации и хирургического лечения в общей сложности на 88,2% [15].
По данным некоторых ретроспективных исследований, показан существенный протективный эффект вакцинации против ВПЧ как у женщин, так и у мужчин после хирургического лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний [16, 17]. Снижение частоты рецидива после лечения вакцинированных пациентов подтверждено для доброкачественных (бородавки) и предраковых заболеваний [18, 19]. SPERANZA, проспективное клиническое исследование для оценки клинической эффективности вакцинации против ВПЧ после хирургического лечения (LEEP) у женщин с дисплазией высокой степени и микроинвазивным цервикальным раком, также показало снижение рецидива на 81,2% [20]. Защитная роль вакцины против ВПЧ у женщин с распространенной инфекцией ВПЧ до сих пор полностью не изучена. Чтобы объяснить наблюдаемое снижение рецидивов в вакцинированной группе, можно предположить два пути:
- первичная профилактика для пациентов, ранее не подвергавшихся воздействию типов ВПЧ, представленных в вакцинах, – иммунизация может обеспечить защиту от новой инфекции ВПЧ;
- реактивация/реинфекция – когда иммунная система неэффективна для обеспечения длительной защиты, вакцинация против ВПЧ может предотвратить потерю иммунологической эффективности, которая у женщин без вакцинации способствует развитию рецидива, связанного с ВПЧ.
Удаление первичного очага вызывает выраженное изменение местного воспалительного ответа и обеспечивает клинические предпосылки для послеоперационной профилактики. Другими словами, хирургическое лечение инфицированных тканей может предложить новый иммунный статус слизистой женских половых путей, сходный с неинфицированной ВПЧ. Тест на ВПЧ, проведенный через 6 месяцев после лечения, не показывает значительных различий в группах с вакцинацией и без, поскольку вакцина против ВПЧ не может влиять на распространенные инфекции. Однако клинический рецидив выше в группе без вакцинации, и, кроме того, в этой группе значительно меньше штаммов ВПЧ, присутствующих в вакцине. Возможным объяснением может быть иммунологический механизм, дополняющий хирургическое вмешательство. Вакцинация против ВПЧ, проводимая сразу после хирургического лечения, способна вызвать огромное количество локальных антител в базальной мембране поверхности шейки матки, которые во время «регенерации» удаленной ткани могут предотвратить самозаражение зоны хирургического вмешательства, исключающее проникновение вируса в базальные слои неинфицированных клеток, что предотвращает рецидив заболевания. Таким образом, можно предположить, что, когда клетки с интегрированным ВПЧ в первичном поражении удаляются хирургическим путем, антитела, вызванные ВПЧ-вакциной, введенной после хирургического лечения, могут предотвратить реактивацию/повторное заражение ВПЧ или инфекцию de novo [20].
Критерии эффективности хирургического лечения дисплазий шейки матки
Частота неудач эксцизионного лечения дисплазии шейки матки, определяемых как персистенция или рецидив CIN 2-й степени или CIN2+, составляет от 4% до 18% [21]. Большинство из этих случаев происходит в течение 2 лет после первичного лечения. Однако все леченые женщины по-прежнему подвержены повышенному риску последующего инвазивного рака шейки матки по сравнению с общей популяцией, по крайней мере, в течение следующих 10 лет [22]. Из-за сильной причинно-следственной связи между персистирующей ПВИ ВКР и раком шейки матки наличие или отсутствие вируса было предложено в качестве теста неудачи лечения или контроля излеченности соответственно. Несколько систематических обзоров представили свидетельства того, что тестирование на наличие ВПЧ высокого риска является точным методом прогнозирования неполного удаления очагов дисплазии или рецидива CIN2+ после хирургического лечения предраковых состояний шейки матки [22]. Согласно результатам метаанализа Arbyn и соавт., неудачи лечения предраковых состояний шейки матки с помощью эксцизии в среднем составляют 7%, а неполное удаление опухолевой ткани увеличивает этот риск примерно в 5 раз по сравнению с таковым у женщин с краями резецированного участка без CIN. Только 56% женщин с остаточным или рецидивирующим CIN2+ в течение по меньшей мере 18 месяцев имели вовлеченные поля, тогда как 16% вылеченных женщин также имели положительные края резекции. В 18 анализированных исследованиях также было проведено тестирование на наличие ДНК ВПЧ ВКР после лечения. Оно оказалось более чувствительным и идентичным по специфичности со статусом края удаленного участка. Знание состояния края при эксцизии само по себе не позволяет четко определить тактику ведения пациентов. Тем не менее стратификация риска в соответствии с различными комбинациями исследования края и статуса ВПЧ после лечения может позволить дифференцировать тактику ведения в соответствии с конкретными характеристиками пациента [22]. На интерпретацию состояния края меньше всего влияет конизация холодным ножом, за которой следует иссечение большой петлей, а затем лазерная конизация, которая вызывает наибольший артефакт тканей [23]. Метаанализ Arbyn дает только низкокачественные доказательства того, что иссечение с помощью больших петель менее эффективно, чем конизация холодным ножом или лазерная конизация. В самом деле сравнения являются косвенными, и только в двух исследованиях представлены данные о конизации холодным ножом и лазерной конизации. Более убедительные доказательства следует отнести к Кокрановскому обзору рандомизированных исследований, который не показал значительных различий в эффективности между процедурами лечения [24].
Учитывая значимость ВПЧ-инфекции и связанной с ней патологии шейки матки, любые знания в этой области и основанные на этом лечебные и профилактические мероприятия могут способствовать снижению заболеваемости. Как следует из представленного материала, изменения микробиоты влагалища – один из факторов, потенцирующих персистенцию ВПЧ. Основной первичной профилактикой ВПЧ-ассоциированных видов рака является вакцинация против ВПЧ, демонстрирующая безопасность и эффективность в предотвращении их развития в кратко- и среднесрочной перспективе. Кроме того, доказан противорецидивный эффект вакцинации против ВПЧ в отношении дисплазии шейки матки после хирургического лечения, что также может внести значимый вклад в снижение бремени ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.