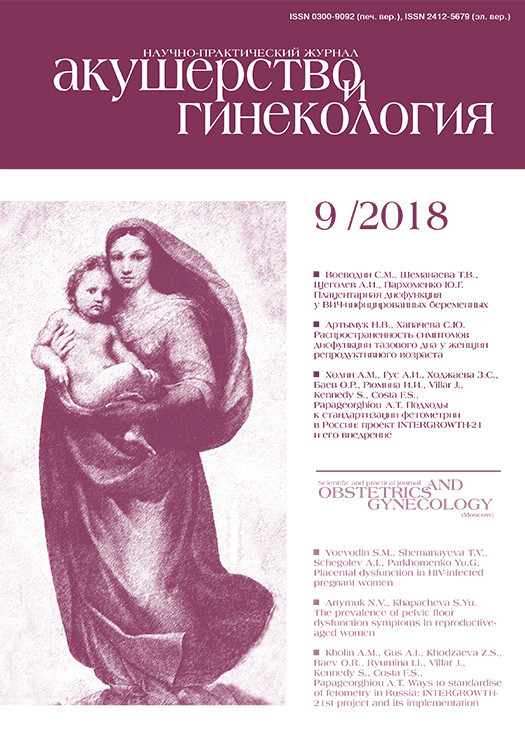Аногенитальные инфекции, ассоциированные с вирусом папилломы человека (ВПЧ), чрезвычайно распространены и легко приобретаются во время сексуального контакта. Заболеваемость достигает пика вскоре после начала сексуальной активности, в возрасте 15–25 лет, затем снижается, но в ряде регионов мира второй пик наблюдается в средние годы жизни женщины. Большинство папилломавирусных инфекций (ПВИ) носят транзиторный характер и самостоятельно разрешаются в течение 2 лет, в некоторых случаях, однако инфекция персистирует и может быть причиной развития рака шейки матки (РШМ) и рака ряда других локализаций. Наибольший вклад в риск возникновения рака вносят ВПЧ 16-го и 18-го типов, ассоциированных примерно с 70% РШМ [1]. РШМ – третий по частоте в структуре онкологических заболеваний у женщин в глобальном масштабе, в Российской Федерации является самым частым злокачественным новообразованием у женщин в возрастной группе 25–35 лет; наибольшая заболеваемость отмечается в возрасте 40–44 лет [2, 3].
Три профилактические вакцины в настоящее время лицензированы для профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний: четырехвалентная ВПЧ 6/11/16/18 (4ВПЧ), двухвалентная ВПЧ 16/18 (2ВПЧ) и девятивалентная ВПЧ 6/11/16/18/31/33/45/52/58 (9ВПЧ). В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины – четырехвалентная и двухвалентная, которые уже 10 лет широко используются в мире и доказали высокую безопасность и эффективность в профилактике ПВИ и предраковых цервикальных заболеваний, а 4ВПЧ – и генитальных кондилом, не только в клинических исследованиях, но и в реальной жизни [4–7].
Приоритетной популяцией для рутинной вакцинации признаны девочки-подростки до начала сексуальной активности и, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Экспертных советов по иммунизации и других профессиональных организаций, плановая вакцинация 11–14-летних девочек включена в национальные программы иммунизации многих стран мира и проводится в отдельных регионах России [8–13]. Дополнительной популяцией для массовой вакцинации согласованно считают молодых сексуально активных женщин до возраста 25–26 лет, поскольку они получают по меньшей мере частичную пользу от вакцинации – защиту от тех типов, с которыми еще не встречались, и большинство молодых женщин, как свидетельствуют данные клинических и эпидемиологических исследований, защиту от двух главных онкогенных типов ВПЧ 16 и ВПЧ 18 [14]. Правительства ряда развитых стран финансируют плановую вакцинацию этой дополнительной когорты, а в тех странах, где позволяют ресурсы, в рамках национальных программ предусмотрена вакцинация и мальчиков-подростков [8, 15]. Вакцины против ВПЧ зарегистрированы для применения у женщин 9–45 лет, однако вопрос о пользе вакцинации для женщин среднего возраста (старше 26 лет) остается неоднозначным [16, 17]. Для рассмотрения потенциальной пользы вакцинации у взрослых женщин важны данные о частоте и происхождении ПВИ, риске развития цервикальных поражений, а также иммуногенности и эффективности вакцин в данной возрастной группе.
В то время как у молодых женщин случаи ПВИ наиболее вероятно представлены новыми инфекциями, у женщин среднего возраста недавнее обнаружение ДНК ВПЧ может означать как вновь приобретенную инфекцию, так и повторное выявление прежней инфекции. Прерывистое обнаружение персистирующей инфекции может случаться, когда вирусные уровни колеблются вокруг порога обнаружения в ДНК пробах. Реактивация прежней инфекции также возможна, поскольку существуют биологические доказательства способности ВПЧ находиться в латентном состоянии в базальных клетках эпителия шейки матки [18, 19].
Хотя исследования последних лет дали большее понимание вопроса реинфекции против реактивации латентной инфекции, картина остается сложной. Частота повторного обнаружения того же типа ВПЧ после документированного клиренса варьирует от 5 до почти 20% в зависимости от возраста, продолжительности наблюдения и определения клиренса. Так, A.B. Moscicki и соавт. показали, что за 2-летний период ВПЧ 16 был повторно обнаружен после клиренса, подтвержденного по меньшей мере двумя последовательными негативными тестами, у 3–5% женщин, а после 5 лет наблюдения – у 10–17% женщин [20]. В этом исследовании сексуальное поведение было сильно ассоциировано с повторным выявлением ВПЧ 16, наводя на мысль, что эти инфекции были следствием повторного воздействия вируса.
Отличить новую инфекцию от персистирующей с прерывистым выявлением или реактивации ранее приобретенного типа методологически проблематично без надежного индикатора прежней инфекции. Недостатки ВПЧ серологии как маркера прежней инфекции включают ограниченную чувствительность, отсутствие стандартизированного подхода и тот факт, что ответы антителами не однородны и не сохраняются в течение всей жизни [21]. Известно, что разрешение (очищение/клиренс) ПВИ происходит с помощью клеточно-опосредованных иммунных механизмов, в то время как выработка антител играет важную роль в защите от ПВИ. Однако гуморальный ответ на естественную инфекцию медленный и слабый; антитела появляются в среднем через 6 месяцев после инфицирования, уровень их низкий, а у 30–50% пациентов с персистирующей инфекцией сероконверсия отсутствует [22]. Кроме того, протективная роль естественно приобретенных антител сегодня недостаточно ясна, хотя в большинстве исследований показано, что они могут обеспечить определенную защиту против будущей инфекции.
N. Wentzensen и соавт., используя два серологических метода, обнаружили 8,5–9,6% женщин с серологическими признаками ВПЧ 16, имевших рецидив инфекции – уровень много ниже, чем у тех, кто не имел серологических признаков. Среди женщин, которые были серопозитивны обоими методами, только 6,8% имели рецидивы, в сравнении с 15% женщин, которые были негативны обоими методами [23]. Важная информация получена также в исследованиях ВПЧ-вакцин. В III фазе клинических исследований 4ВПЧ вакцины женщины из группы плацебо, которые были ВПЧ ДНК-негативны, но серопозитивны, имели более низкий типоспецифичный уровень цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) 2/3 в сравнении с женщинами, которые были ВПЧ ДНК-негативны и серонегативны. Это означает, что серопозитивный статус после естественной инфекции ассоциирован с некоторой защитой от реинфекции. По результатам исследований 2ВПЧ вакцины также сделано заключение, что естественно приобретенные антитела к ВПЧ 16, и в меньшей степени к ВПЧ 18, снижают риск последующей инфекции и цервикальных атипий, ассоциированных с тем же типом ВПЧ [24]. Таким образом, хотя данные литературы относительно уровней реинфекций в соответствии с серологическими данными ограничены и неоднородны, все они не противоречат гипотезе, что антитела, приобретенные вследствие естественной инфекции, обеспечивают лишь частичную защиту против последующей инфекции тем же типом ВПЧ. Уровни естественно приобретенных антител, которые могут обеспечить защиту, еще не установлены.
Поскольку сексуальное поведение влияет на риск приобретения ВПЧ, эта информация необходима для понимания происхождения ПВИ у женщин среднего возраста. В исследовании, выполненном в США, у 700 женщин в возрасте 35–60 лет информация о сексуальной активности и цервикальные образцы на ВПЧ ДНК собирались каждые полгода в течение 2 лет. Наличие нового полового партнера и общее число половых партнеров в течение жизни были значительно ассоциированы с появлением ВПЧ. Однако только 13% случаев были связаны с новым половым партнером, тогда как 72% были связаны с наличием ≥5 половых партнеров в течение жизни. Более того, 85% обнаружений ВПЧ случились в период сексуального воздержания или моногамных отношений и были сильно ассоциированы с общим числом сексуальных партнеров. Эта ассоциация увеличивалась с увеличением возраста. Результаты наблюдения, по мнению авторов, позволяют отнести большинство случаев ПВИ в исследуемой когорте к прошлому, а не настоящему, и подтверждают модель естественной истории с вирусной латентностью и реактивацией [25].
В другом американском исследовании 420 женщин в возрасте 25–65 лет трижды в год предоставляли вагинальные образцы для ВПЧ-тестирования и заполняли опросник о сексуальном поведении. Анализ полученных данных позволил авторам заключить, что в когорте женщин высокого риска – с многочисленными половыми партнерами или с новым половым партнером, около двух третей случаев инфекций, вероятно, были новыми приобретениями, тогда как около одной трети случаев, вероятно, представлены повторно выявленными прежними скрытыми или не обнаруживаемыми инфекциями низкого уровня. Совокупная заболеваемость за 12 месяцев составила 25,4%, что подтверждает тот факт, что женщины старше 25 лет по-прежнему подвержены риску инфицирования и поэтому будут получать выгоду от вакцинации против ВПЧ [26].
В недавнем 6-месячном исследовании с участием 409 женщин 30–50 лет дана оценка ассоциации между случаем обнаружения ДНК ВПЧ и недавним сексуальным поведением в зависимости от наличия или отсутствия серологических признаков предшествующей инфекции. 30% случаев обнаружения ДНК ВПЧ были отнесены к предшествующей инфекции (с позитивной серологией) и 40% – к недавней сексуальной активности (с негативной серологией). Авторы выдвинули гипотезу о том, что новые сексуальные контакты могут быть связаны с вновь выявленными инфекциями только при отсутствии серологических доказательств предшествующей инфекции того же типа [27].
В любом возрасте большинство ПВИ – транзиторные и не вызывают клинических проблем, угрозу представляет только персистирующая инфекция, которая может привести к развитию предраковых поражений и инвазивного рака. Существует представление, что среди различных факторов именно возраст выраженно ассоциирован с увеличением частоты персистирующих инфекций и их прогрессией до цервикальных предраковых поражений. Увеличение частоты вирусной персистенции у старших женщин может быть результатом старения иммунной системы и сниженной способности избавляться от недавно приобретенных инфекций, преобладанием долгосрочных инфекций из числа ранее приобретенных над недавними или более краткосрочными инфекциями, а также следствием когортного эффекта. Однако наблюдения, оценивающие риск персистенции и развития поражений после случая инфекции, не выявили возраст-специфичных различий. Так, при анализе данных из ALTS Study (ASC-US и Low-Grade Triage Study) обнаружено, что продолжительность персистенции после случая инфекции была аналогична у женщин всех возрастных групп от <20 до ≥50, что свидетельствует об отсутствии ускоренной естественной истории у старших женщин [28]. В другом исследовании, выполненном в Коста-Рике, за 3-летний период наблюдения женщины среднего возраста (≥34 года) со случаями инфекции имели аналогичный риск CIN 2/3 и CIN3, как и молодые женщины 18–33 лет [29]. Результаты этих исследований дают основание полагать, что естественная история онкогенной ПВИ не зависит от возраста.
Значительный вклад в лучшее понимание естественной истории ПВИ вносят данные, полученные в контрольной группе исследования профилактических ВПЧ-вакцин, которые отражают сведения о типах ВПЧ, гистологии поражений и потенциальных модификаторах прогрессии заболевания. У женщин старше 25 лет (VIVIANE study) наблюдался высокий уровень клиренса ПВИ, за 4 года наблюдения не разрешилась только каждая десятая инфекция. Эти данные согласуются с результатами, полученными у молодых женщин в исследовании PATRICIA. Риск обнаружения CIN1+ или CIN2+ вследствие ПВИ, в целом, также был аналогичным у женщин в возрасте 15–25 и старше 25 лет [30].
Иммуногенность, эффективность и безопасность ВПЧ-вакцин у женщин среднего возраста была изучена в международных рандомизированных контролируемых исследованиях. Согласно данным Кокрейновского обзора ВПЧ-вакцины обеспечивают защиту против персистирующей ВПЧ 16/18 инфекции и ассоциированных CIN2+ поражений (ОР ≤0,15) у женщин среднего возраста (24–45 лет), исходно ВПЧ 16/18-негативных и получивших три дозы вакцины. Когда рассматривались все вакцинированные женщины среднего возраста, независимо от исходного ВПЧ-статуса, вакцинация обеспечивала некоторую защиту от 6-месячной персистирующей инфекции ВПЧ16/18 (ОР=0,57). Вакцины хорошо переносились женщинами 24–45 лет, серьезных неблагоприятных побочных явлений, связанных с вакцинацией, не наблюдалось [31].
Заключение
Очевидно, что ВПЧ-вакцинация высоко превентивна для случаев ПВИ и ассоциированных заболеваний у исходно неинфицированных лиц и обеспечивает максимальную пользу для общественного здравоохранения при ее применении у девочек до начала сексуальной активности. Хотя риск ПВИ наибольший у юных и молодых женщин и с возрастом снижается, он остается существенным на протяжении всей жизни женщины. Ввиду снижения с возрастом экономической эффективности вакцинации и ее ограниченного влияния на популяционном уровне в этой возрастной группе, органы здравоохранения и правительства не могут отстаивать массовую вакцинацию старших женщин. Вместе с тем, ВПЧ-вакцины иммуногенны и безопасны у женщин широкого возрастного диапазона и сексуально активные взрослые женщины также должны иметь возможность получить защиту от ПВИ путем вакцинации, вероятно, в индивидуальном порядке. Это приемлемое использование вакцин в современной клинической практике. В настоящее время ряд стран, включая Канаду, Австрию, Германию, Италию, Португалию и другие, имеют национальные рекомендации для вакцинации взрослых женщин.
К сожалению, целевой подход – идентификация специфических групп или отдельных взрослых женщин, которые могут получить наибольшую пользу от вакцинации, в настоящее время невозможен. Хотя сексуальное поведение женщин и их партнеров – важный фактор, оценка риска для ПВИ, основанная на этом, ненадежна. Типоспецифическое тестирование на ВПЧ16 и ВПЧ18 ДНК теперь доступно в цервикальном скрининге, но его ценность для решения вопроса о вакцинации сомнительна. Даже если женщина позитивна к одному вакцинному типу ВПЧ, она все еще имеет возможность получить защиту от других вакцинных типов, которыми в настоящее время не инфицирована. Распространенность одновременных инфекций 16-м и 18-м типами ВПЧ у женщин среднего возраста <1% по всему миру, значит, большинство женщин имеют возможность получить пользу от вакцинации. Кроме того, большинство ПВИ очищаются иммунной системой, а серологических тестов, доступных для клинического использования, для определения тех, кто был прежде подвергнут воздействию вируса, не существует, и только около половины женщин с ПВИ развивают антительный ответ, протективный уровень которого не установлен. Следовательно, инфицированные в настоящее время женщины могут также получить защиту от будущей инфекции или реактивации и позитивный ДНК-тест на онкогенные ВПЧ, в соответствии с настоящими знаниями о безопасности, не должен служить противопоказанием для вакцинации. Задача врачей предоставить женщине правильную информацию о степени индивидуальной пользы, которую она, вероятно, получит, разъяснить ошибочные ожидания в связи с ВПЧ-вакцинацией и обязательно обеспечить четким пониманием необходимости продолжать цервикальный скрининг.