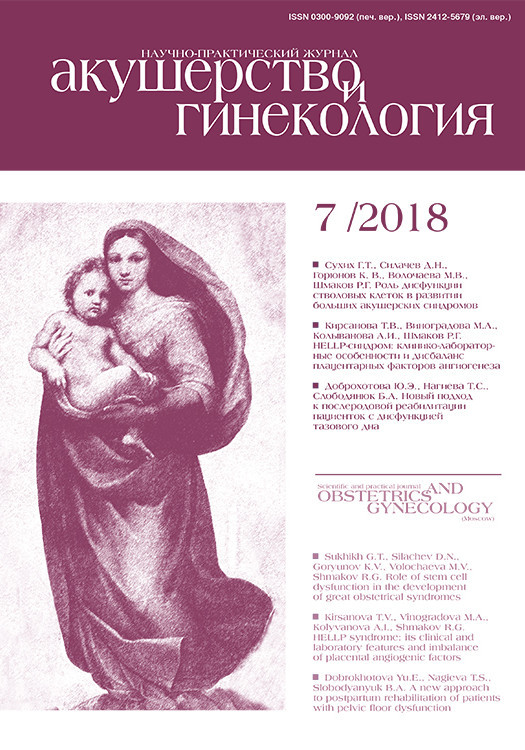Менопауза – последняя менструация, отражает окончательное прекращение менструальных циклов вследствие потери фолликулярной активности яичников [1, 2].
Средний возраст наступления менопаузы во всем мире составляет 48,8 лет (95% ДИ 48,3–49,2) со значительными колебаниями этого показателя в зависимости от географического региона проживания женщин [2, 3], в Российской Федерации он колеблется от 49 до 51 года [2]. Возрастная группа женщин в пери- и постменопаузе в нашей стране составляет более 21 млн, при этом женщины живут практически 1/3 своей жизни в условии дефицита эстрогенов [2].
Период менопаузы характеризуется постепенным снижением, а затем и «выключением» функции яичников (в первые 1–3 года постменопаузы в яичниках обнаруживают лишь единичные фолликулы, в последующем они полностью исчезают). Развившееся в результате этого состояние гипергонадотропного гипогонадизма характеризуется изменением функции лимбической системы, нарушением секреции нейрогормонов, развитием инволютивных и атрофических процессов в репродуктивных и не репродуктивных органах-мишенях [3, 4]. Несмотря на универсальность эндокринных сдвигов в ходе репродуктивного старения, у разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по своей продолжительности и сопровождаться различными специфическими симптомами (вазомоторными, психо-эмоциональными, вагинальными, сексуальными и др.) и признаками: потерей костной массы, формированием неблагоприятного профиля сердечно-сосудистого риска вследствие развития абдоминального/висцерального ожирения, дислипидемии, эндотелиальной дисфункции, нарушения толерантности к глюкозе и др. [4–8]. Выявлена корреляционная зависимость между вазомоторными симптомами и инсулинорезистентностью, эндотелиальной дисфункцией, повышением кальцификации аорты и толщиной интимы-медиа (ТИМ) сонной артерии, уровнем маркеров коагуляции и воспаления [5, 7–10].
Все структуры мочеполового тракта являются эстроген-зависимыми, поэтому в ответ на снижение уровня половых стероидов в слизистой влагалища, вульвы, мочевого тракта, соединительной ткани и мышцах малого таза развиваются ишемия и атрофические изменения. Вследствие этого происходит резкое ощелачивание влагалищной среды, могут возникать дисбиотические процессы и различные нарушения мочеиспускания, формирующие генитоуринарный синдром [7, 11, 12].
Эстрогенный дефицит приводит к чрезмерной продукции остеобластами прорезорбтивного цитокина RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB ligand) и снижает секрецию антирезорбтивного белка остеопрогерина [13]. Уменьшение с возрастом абсорбции кальция в кишечнике, дефицит витамина D и нарушение образования в почках активного 1,25‑дигидроксивитамина D3 способствует развитию вторичного гиперпаратиреоза, что также усиливает костную резорбцию [13]. Увеличение резорбции кости и уменьшение процессов ее формирования приводят к снижению прочности костной ткани, переломам при минимальной нагрузке на скелет (низкотравматические переломы) [13, 14].
Классификация
Выделяют следующие типы менопаузы [2]:
- самопроизвольная (естественная) менопауза;
- ятрогенная (вторичная) менопауза, наступившая в результате двухсторонней овариоэктомии (хирургическая менопауза), химио- или лучевой терапии;
- преждевременная недостаточность яичников (до 40 лет);
- ранняя (40–44 года);
- своевременная (45–55 лет);
- поздняя (старше 55 лет).
В 2001 г. впервые была разработана клинико-гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы (Stages of Reproductive Aging Workshop – STRAW), пересмотренная в 2011 г. с учетом результатов крупных когортных исследований, проведенных в течение последующих 10 лет (STRAW+10) (1), согласно которой выделяют:
Период менопаузального перехода характеризуется вариабельностью циклов, начинается в 40–45 лет и заканчивается с наступлением менопаузы. Отмечаются различные уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола (Е2) и снижение ингибина В и антимюллерова гормона (АМГ). На фоне задержек менструаций могут появляться вазомоторные, психологические, урогенитальные симптомы дефицита эстрогенов.
Менопауза – стойкое прекращение менструаций, это последняя самостоятельная менструация, обусловленная возрастным снижением гормональной и «выключением» репродуктивной функции яичников. Дата оценивается ретроспективно: спустя 12 мес. отсутствия менструации.
Перименопауза включает период менопаузального перехода + 12 мес. после последней самостоятельной менструации.
Постменопауза – период после наступления менопаузы.
Различают фазы раннего постменопаузального периода: +1а, +1b, +1c. характеризуются прогрессирующим повышением уровней ФСГ, снижением Е2, АМГ и ингибина В. Эта фаза продолжается 5–8 лет, чаще персистируют симптомы климактерического синдрома.
Поздняя постменопаузальная фаза (+2). Вазомоторные симптомы менее выражены, но могут персистировать в 15% случаев длительное время. На первый план выходит соматическое старение.
Клинические проявления
В настоящее время приходится отказываться от четкого деления менопаузальных симптомов на ранние, средне-временные и поздние, поскольку результаты проспективных исследований последних лет показывают, что субклинические проявления эстрогенного дефицита начинают появляться на самых ранних этапах старения репродуктивной системы [14–16].
При опросе пациентки следует обращать внимание на наличие следующих симптомов [2, 7, 14]:
- вазомоторные – приливы, повышенная потливость;
- психо-эмоциональные – депрессия, раздражительность, возбудимость, расстройство сна, слабость, снижение памяти и концентрации внимания;
- урогенитальные и сексуальные – зуд, жжение, сухость во влагалище, диспареуния, дизурия;
- скелетно-мышечные – ускорение потери костной ткани (остеопения, остеопороз); повышение риска переломов; саркопения.
Большинство эпидемиологических и клинических исследований показывают, что многие женщины испытывают более одного cимптома из этой группы в течение отдельных стадий старения репродуктивной системы [14, 15].
Наиболее часто женщин в пери- и ранней постменопаузе беспокоят вазомоторные проявления: приливы и гипергидроз. По данным литературы около 75% женщин в возрасте от 45 до 55 лет предъявляют жалобы на приливы «жара», при этом в 28,5% случаев – в средней или тяжелой степени [7]. Для определения тяжести менопаузальных симптомов используются специальные шкалы (Шкала Грина, Куппермана) [7].
Диагностика
Лабораторная диагностика включает проведение гормонального обследования, особенно, в случае неясного менопаузального статуса [2, 7, 16–18]:
- уровень ФСГ в крови на 2–4 день менструального цикла;
- уровень АМГ в крови у женщин в возрасте до 40 лет с подозрением на преждевременную недостаточность яичников;
- уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в крови для дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы;
- уровень пролактина в крови для дифференциальной диагностики нарушений менструального цикла.
При наличии клинических признаков генитоуринарного синдрома проводится [2, 7]:
- цитологическое исследование: определение индекса созревания эпителия влагалища;
- определение рH влагалищного содержимого.
Инструментальная диагностика включает:
Проведение трансвагинальной ультрасонографии для определения признаков «старения» яичников, уменьшения их объема и измерения числа антральных фолликулов [2, 7, 16, 18].
При наличии нарушений мочеиспускания показано проведение комплексного уродинамического исследования [2, 7].
При наличии переломов в анамнезе или факторов риска остеопороза рекомендовано проведение денситометрии (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА) поясничного отдела позвоночника и шейки бедра [2, 7, 16]. Кроме того, при наличии факторов риска остеопороза проводится оценка индивидуальной 10-летней вероятности переломов (FRAX) у женщин в постменопаузе старше 50 лет [7, 16].
Лечение
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ)
При наличии климактерических проявлений средней и тяжелой степени, приводящих к значительному снижению качества жизни пациенток, показано назначение МГТ [2, 7, 16–18].
Цель МГТ – частично восполнить дефицит половых гормонов, используя минимально-оптимальные дозы гормональных препаратов, способные улучшить общее состояние больных, купировать климактерические симптомы, обеспечить профилактику поздних обменных нарушений, и которые не сопровождаются побочными эффектами.
Показаниями для назначения МГТ являются [2, 7]:
Вазомоторные симптомы с изменением настроения, нарушением сна.
Симптомы генитоуринарного синдрома, сексуальная дисфункция.
Профилактика и лечение остеопороза.
Низкое качество жизни, связанное с климактерием, включая артралгии, мышечные боли.
Преждевременная и ранняя менопауза.
Двусторонняя овариэктомия.
Не рекомендуется назначать МГТ при отсутствии четкого показания для ее применения, т.е. значимых симптомов или физических последствий дефицита эстрогенов [16].
МГТ противопоказана при следующих заболеваниях и состояниях [2, 7, 17, 18]:
- Кровотечение из половых путей неясного генеза;
- Рак молочной железы, эндометрия, яичников;
- Острый гепатит;
- Острый тромбоз глубоких вен;
- Острая тромбоэмболия;
- Аллергия к ингредиентам МГТ;
- Кожная порфирия;
- рак молочной железы ЭР+, рак эндометрия (в анамнезе);
- Тяжелая дисфункция печени;
- Менингиома (для гестагенов);
- Венозный тромбоз и эмболия (в анамнезе).
Для выявления риска возможных побочных эффектов перед назначением МГТ показано проведение комплексного обследования, включающее [2, 7, 16, 18]:
- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза (при толщине эндометрия до 4 мм МГТ не противопоказана, до 7 мм – назначаются прогестагены 12–14 дней и проводится контроль УЗИ на 5-й день менструально подобного кровотечения; > 7 мм – проводится гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание);
- обследование молочных желез: осмотр, пальпация, маммография в 2 проекциях с 35 лет каждые 2 года, при неблагоприятном анамнезе и после 50 лет ежегодно;
- липидограмма (уровень общего холестерина крови, холестерина липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности);
- уровень глюкозы в крови натощак;
- онкоцитологическое исследование – РАР-тест.
При соответствующих данных анамнеза и показаниях рекомендовано проведение ряда дополнительных обследований [2, 7, 17]:
- УЗИ печени и печеночные ферменты;
- колоноскопия;
- гемостазиограмма + D-димер;
- анализ крови на тромбофилические мутации.
Для каждой пациентки необходим индивидуальный подбор режима и пути введения препаратов МГТ с учетом выраженности симптомов, персонального и семейного анамнеза, результатов соответствующих исследований, предпочтений и ожиданий женщины [2, 7, 16–18]. Следует придерживаться так называемой «временной гипотезы»: начинать МГТ в возрасте моложе 60 лет или при длительности постменопаузы менее 10 лет.
МГТ включает широкий спектр гормональных препаратов и путей введения, которые потенциально имеют различные риски и преимущества.
Режимы и характеристики МГТ
Монотерапия эстрогенами показана женщинам с удаленной маткой вне зависимости от фазы климактерия [2, 7, 16–18].
Необходимо учитывать показания к гистерэктомии и объем операции (тотальная или субтотальная). Используются препараты, содержащие 17β-эстрадиол, эстрадиола валерат, эстрадиола гемигидрат, эстриол. Пути введения: пероральный (таблетки) и парентеральный (накожный – гели, пластыри; вагинальный – таблетки, кремы, свечи, кольца; инъекционный); прерывистые курсы или непрерывный режим.
Монотерапия прогестагенами показана только в фазе менопаузального перехода или в перименопаузе для регуляции цикла, профилактики гиперпластических процессов эндометрия [2, 7, 16, 18].
Используется микронизированный прогестерон (перорально или вагинально), дидрогестерон перорально. Возможно введение внутриматочной системы с левоноргестрелом (ЛНГ-ВМС), особенно у женщин в период менопаузального перехода, нуждающихся в контрацепции и при наличии маточных кровотечений, не связанных с органической патологией матки
Комбинированная эстроген-гестагенная терапия в циклическом режиме с использованием двухфазных препаратов показана женщинам с интактной маткой в фазе менопаузального перехода или в перименопаузе [2, 7, 16–18].
Следует информировать женщину о том, что препараты для МГТ не обладают контрацептивным эффектом.
Монофазная комбинированная терапия в непрерывном режиме показана женщинам в постменопаузе с интактной маткой.
Дозу препарата МГТ рекомендовано титровать до самой низкой оптимальной и наиболее эффективной дозы [2, 7, 16, 17]. В Российской Федерации зарегистрированы пероральные препараты МГТ с включением стандартных (2 мг), низких (1 мг) и ультранизких (0,5 мг) доз эстрогена. Низкодозированные и ультранизкодозированные пероральные эстрогены столь же эффективны для лечения вазомоторных симптомов и имеют более благоприятный профиль побочных эффектов, по сравнению со стандартными дозами гормонов [17].
Для каждой пациентки необходимо подобрать наиболее оптимальный путь введения эстрогенов. Трансдермальный путь введения гормонов предпочтителен при следующих состояниях [7, 16, 19]:
- болезнях печени, поджелудочной железы, нарушенной всасываемости в желудочно-кишечном тракте;
- расстройствах коагуляции, высоком риске развития венозного тромбоза;
- гипертриглицеридемии до и на фоне пероральных препаратов;
- артериальной гипертензии (> 170/100 мм рт.ст.), гиперинсулинемии;
- повышенном риске образования камней в желчных путях;
- мигренозной головной боли;
- курении;
- ожирении.
Систематический обзор 9 двойных слепых рандомизированных контролируемых исследований показал высокую эффективность низкодозированных трансдермальных эстрогенов для лечения умеренных/тяжелых менопаузальных симптомов [19]. При этом трансдермальные эстрогены вследствие отсутствия первичного пассажа через печень не обладают неблагоприятным влиянием на метаболические процессы и не повышают образование протромботических факторов. В тоже время в исследовании WHI было показано, что пероральный прием эстрогенов связан с повышенным риском венозной тромбоэмболии, желчекаменной болезни и, возможно, инсульта [18, 19].
Для купирования проявлений только генитоуринарного синдрома показано использование локальной гормонотерапии препаратами эстрогенов [7, 11, 16, 20, 21].
Локальная (вагинальная) терапия эстрогенами в низких дозах предпочтительна для женщин с жалобами на сухость влагалища, диспареунию или дискомфорт при половой жизни, связанный с этим состоянием. Длительные наблюдения (6–24 мес.) показывают отсутствие влияния локальных эстрогенов на эндометрий, поэтому не требуется дополнительного использования прогестагенов. Локальные эстрогены не повышают риск венозной тромбоэмболии. Препараты эстрадиола для вагинального введения в Российской Федерации не зарегистрированы, однако имеется клинический опыт применения препаратов эстриола в различных дозах – от 0,5 до 0,03 мг как в виде монотерапии, так и в сочетании с лактобактериями. Эстриол интравагинально можно назначать женщинам в возрасте старше 60 лет. В начале лечения препараты назначают ежедневно, по мере улучшения – 2 раза в неделю. Ограничений для перерывов и возобновления приема этих препаратов нет. В зависимости от тяжести симптомов гормональные препараты могут использоваться совместно с любрикантами. Положительный частичный эффект локальной гормонотерапии может наблюдаться также при рецидивирующих урогенитальных инфекциях, гиперактивном мочевом пузыре, дизурии. Применение локальных эстрогенов не эффективно для лечения стрессового недержания, но может давать положительный результат в отношении симптомов ургентности и учащенного мочеиспускания [11, 16, 20].
МГТ является эффективным методом предотвращения потери костной массы, которая наиболее выражена в первые 3–5 лет постменопаузы, а также способствует сохранению качества кости и межпозвонковых дисков у женщин в постменопаузе. Назначение препаратов МГТ для профилактики остеопороза и переломов у женщин с повышенным риском переломов в постменопаузе рекомендовано в возрасте до 60 лет и/или с длительностью менопаузы до 10 лет [2, 7, 16, 22, 23]. Эффективность МГТ доказана в отношении снижения риска перелома в популяции постменопаузальных женщин с остеопенией [22–24]. Доказательства профилактики переломов при назначении МГТ ограничены данными по пероральному применению стандартных доз конъюгированных эквинных эстрогенов (КЭЭ) и медроксипрогестерона ацетата. Имеются фактические данные о предотвращении потери минеральной плотности когсти при пероральном (КЭЭ и 17β-эстрадиол) и трансдермальном (17β-эстрадиол) применении доз, ниже стандартных.
Исследования показали, что тиболон, синтетический препарат, метаболизирующийся до молекул, которые имеют сродство к рецепторам эстрогенов, прогестерона и андрогенов, предотвращал переломы позвонков и других локализаций [22–24]. После отмены гормонотерапии в течение 2–4 лет состояние костной ткани возвращается к исходному. Мониторинг эффективности терапии осуществляется с помощью ДЭРА. Мониторинг с помощью определения биохимических маркеров костного ремоделирования в повседневной практике не рекомендуется.
Решение о продолжении приема МГТ принимается совместно женщиной и ее врачом с учетом конкретных целей и объективной оценки текущих индивидуальных преимуществ и рисков терапии [2, 16, 17]. Эксперты NAMS в 2015 г. опубликовали заявление о возможном продолжении использования МГТ в минимальной эффективной дозе у женщин в возрасте — 65 лет для лечения персистирующих приливов при условии, что пациентка получила подробную информацию о возможных рисках и находится под тщательным врачебным наблюдением [7].
МГТ и миома матки
МГТ не противопоказана у женщин в постменопаузе с бессимптомной миомой матки, однако, рекомендуется назначать терапию у женщин, имеющих не более 2–3 узлов размером не более 3 см. Исключением является субмукозная миома матки (риск роста узла и аномальных маточных кровотечений) [25, 26]. При этом пациентка должна быть предупреждена о риске возможного роста опухоли и о том, что следует незамедлительно посетить врача при появлении симптомов. Необходимо динамическое УЗИ органов малого таза с допплерометрией 1 раз в 6 месяцев. При появлении интенсивного кровотока в узлах лечение должно быть отменено и решается вопрос о тактике дальнейшего ведения [25, 26].
МГТ и эндометриоз
При необходимости назначения МГТ у женщин с эндометриозом в анамнезе рекомендовано применение непрерывного комбинированного режима терапии или тиболона, вне зависимости от того, была ли произведена гистерэктомия или нет. Это позволяет снизить риск рецидива заболевания [27, 28]. Распространенность эндометриоза в постменопаузе составляет 2–5%, что не обязательно связано с применением МГТ. В постменопаузе чаще выявляются эндометриоидные кисты яичников и экстрагенитальные формы с вовлечением кишечника, мочевого пузыря, уретры и др., что требует проведения дифференциальной диагностики с онкологическими заболеваниями. Монотерапия эстрогенами для купирования вазомоторных симптомов может способствовать реактивации очагов эндометриоза или появлению заболевания de novo.
Гормональная терапия у женщин с преждевременной/ранней менопаузой
Рекомендовано назначение гормональной терапии (в отличие от женщин со своевременной менопаузой у таких пациенток правомочен термин «заместительная гормональная терапия») до возраста естественной менопаузы с целью профилактики кардиометаболических нарушений и остеопороза [16, 17, 29].
Женщины с преждевременной/ранней менопаузой на начальных этапах лечения часто нуждаются в более высоких дозах эстрогенов, чем женщины старше 45 лет. Рекомендуются следующие дозы эстрогенов: 2 мг/сутки для 17β-эстрадиола или 75–100 мг/сутки для трансдермального эстрадиола. Целью терапии является достижение средних уровней эстрадиола в сыворотке около 100 пг/мл (400 пмоль/л), соответствующих таковым у регулярно менструирующих женщин. Предпочтительны трансдермальные формы эстрогенов и метаболически нейтральные прогестагены, принимая во внимание длительность терапии. Микронизированный прогестерон может назначаться, как в циклическом режиме (по 200 мг в течение 14 дней каждого месяца) или в непрерывном режиме (по 100 мг в сутки) при длительности менопаузы >2 лет. Возможно применение эстрогенов (пероральных или трансдермальных) в комбинации с ЛНГ-ВМС у женщин с преждевременной недостаточностью яичников, которые не хотят иметь менструально-подобное кровотечение и нуждаются в контрацепции (в крайне редких случаях возможна спонтанная беременность). В таких случаях возможно также применение комбинированных оральных контрацептивов, лучше с натуральным эстрогеном.
Негормональное лечение
Применение альтернативных методов лечения климактерических расстройств показано женщинам, которые имеют противопоказания к МГТ или не желают принимать гормональные препараты [30, 31].
Использование фитоэстрогенов, фитогормонов, медитации, релаксации, управляемого дыхания, когнитивно-поведенческой терапии и акупунктуры могут быть полезными у некоторых пациенток с приливами. Однако, при назначении альтернативных методов лечения необходимо объяснять женщинам, что данная терапия имеет ограниченные доказательства эффективности. Роль альтернативных методов терапии в ведении пациенток в менопаузальном периоде, как с целью облегчения симптоматики, так и для профилактики отдаленных осложнений, остается противоречивой [30–34].
К препаратам, которые достоверно облегчают вазомоторные симптомы, относятся селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), некоторые противоэпилептические препараты и др. Однако, В Российской Федерации СИОЗС/СИОЗСН и габапентин не имеют зарегистрированных показаний к применению при климактерическом синдроме. Использование габапентина для лечения вазомоторной симптоматики ограничено вследствие широкого спектра серьезных побочных эффектов [30, 35].
Реабилитация и диспансерное наблюдение
Специфических реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с климактерическими симптомами не разработано.
На фоне приема МГТ необходимо мониторирование эффективности лечения через 6–8 недель после начала приема препаратов, далее каждые 6 месяцев в течение первого года терапии, затем 1 раз в год [2, 7].
Пациентки, принимающие препараты МГТ, должны проходить ежегодное комплексное обследование с целью оценки рисков и возможных побочных эффектов [2, 7, 16]:
- УЗИ органов малого таза;
- Маммографию 1 раз в год;
- Онкоцитологию шейки матки и тестирование на вирус папилломы человека методом полимеразной цепной реакции;
- Биохимическое исследование крови: глюкоза, креатинин, билирубин, липидограмма;
- ТТГ (по показаниям);
- Гемостазиограмма, денситометрия, определение уровня витамина D (по показаниям).
Профилактика
Специфических профилактических мероприятий в отношении пациенток в пери- и постменопаузе не разработано. Неспецифическая профилактика подразумевает физическую активность, правильное питание и ведение здорового образа жизни.
У физически активных лиц улучшается метаболический профиль, сохраняются мышечная масса (профилактика саркопении) и сила, когнитивные способности и качество жизни. Заболевания сердца, инсульт, переломы и некоторые онкологические заболевания, например, рак молочной железы и рак толстой кишки, встречаются гораздо реже. Оптимальные физические нагрузки составляют как минимум 150 мин. упражнений средней интенсивности в неделю. Однако рекомендованная интенсивность аэробной активности должна учитывать физическое состояние пожилых людей [36].
У женщин в пери- и постменопаузе вазомоторные симптомы увеличиваются по частоте и интенсивности параллельно повышению индекса массы тела. Ожирение является одним из факторов риска вазомоторных симптомов. Главные особенности метаболического синдрома у многих женщин в постменопаузе – одновременное возникновение инсулинорезистентности и ожирения (особенно висцерального). Снижение массы тела лишь на 5–10 % достаточно для коррекции многих нарушений, ассоциированных с синдромом инсулинорезистентности [9, 37, 38].
Для поддержания нормальной массы тела необходимо придерживаться правил здорового питания: несколько порций в день фруктов и овощей, цельных злаков, рыба дважды в неделю и низкое общее потребление жиров; рекомендуется отдавать предпочтение оливковому маслу. Потребление соли должно быть ограничено, а дневное количество алкоголя не должно превышать 20 г [9, 37, 38].
Доказано более раннее наступление менопаузы у курящих женщин. Результаты крупномасштабных исследований показывают, что даже незначительное/умеренное, но длительное курение, значимо коррелирует с внезапной кардиальной смертью у женщин (в 2 раза выше по сравнению с некурящими сверстницами); риск внезапной кардиальной смерти возрастает на 8% в течение каждых 5 лет курения [39, 40].
Важным аспектом для женщин более старшего возраста является сохранение когнитивной функции [41, 42].
Существует три главных подхода для сохранения когнитивной функции:
- улучшение состояния головного мозга за счет профилактики и лечения артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, дислипидемии, ожирения и отказа от курения;
- повышение когнитивного резерва с помощью различных видов досуга, стимулирующих познавательную деятельность, и высокой социальной активности;
- профилактика патологических изменений, характерных для болезни Альцгеймера, которая также включает регулярные физические занятия, применение методик по формированию стрессоустойчивости и сохранение хорошего сердечно-сосудистого здоровья в целом.
МГТ, начатая в среднем возрасте, способствует снижению риска болезни Альцгеймера и деменции [16, 41, 42].
Заключение
Таким образом, МГТ является эффективным методом коррекции менопаузальных симптомов, но имеет определенные риски и побочные эффекты. В связи с этим требуется проведение дальнейших исследований с целью поиска новых негормональных методов лечения климактерических расстройств.