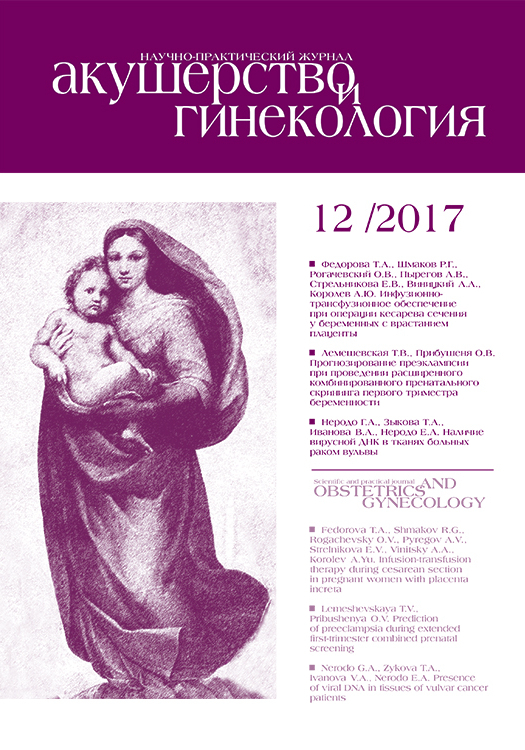Наиболее перспективным направлением в изучении этиологии и патогенеза беременности представляются исследования в области иммунологии и иммунопатологии репродукции [1].
Известно, что внутриутробное развитие плода в значительной степени зависит от состояния иммунной системы матери и регулируется, в частности, многими интерлейкинами, интерферонами и эмбриотропными антителами класса IgG [1, 2]. Многие цитокины являются плюрипотентными ростовыми факторами [2], а антитела могут как стимулировать, так и ингибировать рост и дифференцировку клеток-мишеней и выполнять множество других регуляторных функций [3, 4]. Стойкие, легко детектируемые изменения продукции и сывороточного содержания естественных аутоантител могут быть маркерами, указывающими на риск аномалий развития плода, в том числе на нарушения развития структур центральной нервной системы [4].
На основании подобных данных была сформулирована концепция участия иммунной системы в регуляции дифференцировки клеток в ходе индивидуального развития организма [5, 6].
Известно, что при воздействии неблагоприятных факторов среды, хронических воспалительных процессов, инфекционных заболеваний, нерациональном питании и др. могут индуцироваться стойкие изменения в иммунной системе женщины. Если беременность наступает на фоне таких изменений, они могут привести к патологии развития плода [7].
Важную роль может играть и феномен эпигенетического материнского иммунного импринтинга [8, 9], который зависит от трансплацентарного поступления избытка или недостатка определенных антител от матери к плоду. Характерно, что иммунные изменения в большинстве случаев могут быть мало заметными для сформированного организма взрослой женщины. Однако если на фоне измененной иммунореактивности наступает беременность, подобные изменения могут быть важным фактором патогенеза неврологических, соматических или эндокринных нарушений у ее ребенка, включая расстройство аутистического спектра (РАС) [10]. По данным Всемирной организации аутизма, за последние 10 лет количество детей с РАС выросло более чем в 10 раз [11–13]. Сегодня частота рождения детей, страдающих этим расстройством, составляет один случай на каждые 60–80 новорожденных [9].
РАС – общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами [8]. Центральными дефицитами у людей с РАС являются навыки разделенного внимания и взаимности во взаимодействии [11].
В ранних работах формирование РАС в детском возрасте связывали с нарушением симбиоза между матерью и плодом, расстройством адаптационных механизмов незрелого организма, со слабостью интеграционных процессов в нервной системе ребенка, а также с влиянием внешних факторов, таких как роды, перенесенные инфекции и травмы, то есть отстаивалась многофакторность патогенеза [9, 14]. В последующие годы, принято было считать, что в основе РАС лежат генетические нарушения, и лишь в последние 10–15 лет наметился возврат к прежним «синтетическим» воззрениям на патогенез данного расстройства. Мы полагаем, что соответствующие патофизиологические процессы, ведущие к формированию РАС, возникают лишь при сочетании генетической предрасположенности с негативным влиянием определенных экзогенных факторов, воздействующих на организм матери и опосредованно вызывающих нарушения развития плода.
По американскому диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам пятого издания (DSM-5) под понятием РАС подразумевают четыре вида расстройств; по Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) к общим расстройствам развития относятся семь, одним из которых является классический аутизм. В детском возрасте выставляется диагноз РАС.
Нерешенность многих вопросов патогенеза РАС и принципов выявления женщин группы риска, планирующих беременность, приводит к существенным различиям в тактике прегравидарной подготовки [15, 16]. В последние годы в литературе появились публикации, касающиеся роли и диагностической значимости ряда материнских аутоантител [3, 5]. Возможно, дальнейшее углубленное изучение этого вопроса может быть весьма важно для выявления женщин высокого риска рождения ребенка с РАС.
В работах последних 15–20 лет было показано, что анализ содержания многих естественных антител у женщины, готовящейся к беременности, позволяет дать прогноз развития и ожидаемого результата планируемой беременности, а в случае необходимости – индивидуально назначить адекватную превентивную терапию [1, 5, 17].
Целью настоящего исследования стала оценка диагностического и прогностического анализа профилей сывороточной иммунореактивности, определяемой рядом аутоантител, для выявления женщин групп риска рождения ребенка с РАС.
Материал и методы исследования
Всего были обследованы 100 пациенток в возрасте от 25 до 35 лет (М=30,0±1,5). Все женщины были отобраны когортным методом и разделены на две группы. I группу (основная группа; n=70) составили женщины, родившие детей с РАС, диагностированном в возрасте до трех лет, у 2 (3%) зарегистрированы психоневрологические наследственные заболевания (синдром Ретта и синдром Мартина–Белл); II группу (группа сравнения) составили женщины (n=30), родившие клинически здоровых детей. Обе группы были сопоставимы по акушерско-гинекологической и соматической патологии.
Для исследования использовали свежеполученные образцы сывороток крови, хранившихся не более 2 суток при температуре +1…+4°С. Иммунохимический анализ проводили с помощью метода «ЭЛИ-Висцеро-Тест» («молекулярная диспансеризация») и «ЭЛИ-Нейро-Тест», используя одноименные тест-наборы (производства компании «Иммункулус», Москва, Россия). В образцах сывороток крови выявляли и анализировали индивидуальные профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от аномалий в относительном содержании ауто-АТ класса IgG, направленным к следующим 24 антигенам «ЭЛИ-Висцеро-Тест»: ds-DNA, β2-GP I, Fc-Ig, Collagen, CoM-02, β1-АR, TrM-03, АNCA, KiM-S, LuM-S, GaM-02, ItM-07, ScM, HeS-08, HMMP, Insulin, Ins-R, ТG, TSH-R, AdrM-D/C, Spr-06, S100, GFAP, MBP. А также к 12 антигенам «ЭЛИ-Нейро-Тест»: NF200, GFAP, S100, MBP, V-Ca-Сhan, Ach-Rc, Glu-R, GABA-R, DOPA-R, 5HT-R, m-Opioid-R, b-Endorphin. Постановки реакций каждой пробы сыворотки с каждым из антигенов проводили на одном и том же 96-луночном планшете. На том же планшете производились постановки реакции контрольной сыворотки (КС) с каждым из антигенов. Все постановки дублировали. Использовали стандартные процедуры твердофазного иммуноферментного анализа. Уровень оптической плотности реакции КС с каждым из антигенов принимали за 100%, а интенсивность реакции сывороток пациентов с теми же антигенами рассчитывали по отношению к реакции КС [5]. Затем рассчитывали среднюю индивидуальную иммунореактивность исследуемых образцов сыворотки крови с каждым из антигенов в сравнении с реакцией КС по формулам:

где: СИР – средняя индивидуальная иммунореактивность сыворотки индивидуального пациента по отношению ко всем используемым антигенам, выраженная в процентах от средней иммунореактивности контрольной сыворотки с теми же антигенами; R(ag1, 2,…N) – реактивность (в единицах оптической плотности) сыворотки исследуемого пациента с антигенами 1, 2,…N; R(k1, k2, …N) – реактивность (в единицах оптической плотности) контрольной сыворотки с антигенами 1, 2,…N;.
Для построения профилей иммунореактивности рассчитывали отклонение (в процентах от индивидуального среднего нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента с каждым из антигенов, используя формулы:

где: R(nrm) ag1, ag2, … agN – отклонение (в процентах от индивидуального среднего нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента с каждым из используемых антигенов-1, 2,…N; OD(ag1, ag2, … agN) – оптическая плотность реакции сыворотки индивидуального пациента с каждым из используемых антигенов 1, 2,…N; OD(k1, k2…. к N) – оптическая плотность реакции контрольной сыворотки с каждым из используемых антигенов 1, 2,… N;.
При выполнении исследований «ЭЛИ-Висцеро-Тест» величина N равнялась 24 и 12 – при исследовании «ЭЛИ-Нейро-Тест».
Избирательные сдвиги относительной иммунореактивности с любыми антигенами выше +10% или ниже -20% от индивидуального среднего уровня рассматривали как аномальные пики.
Для расчетов использовали специализированную компьютерную программу, поставляемую вместе с наборами. Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием методов непараметрической статистики (критерий U Уилкоксона–Манна–Уитни).
Результаты и обсуждение
Анализ исходов беременности показал, что в основной группе (I группа) срочные роды наблюдались в 74%, в контрольной (II группа) – в 83% случаев. Количество преждевременных и оперативных родов чаще встречалось в основной группе пациенток. У 2/3 женщин основной группы была повторная беременность (64%), в контрольной группе преобладали первобеременные (70%) и первородящие (63%). Физиологические роды имели место у 49% пациенток из основной группы и 83% – контрольной. Роды путем операции кесарева сечения в I группе закончились у 51% женщин, в контрольной – у 17%, чаще всего операции проводились в экстренном порядке по акушерским показаниям и по состоянию плода (слабость родовой деятельности, нарастание степени тяжести преэклампсии и острая гипоксия плода). В основной группе более чем в 70% наблюдений в анамнезе имелись указания на искусственное прерывание беременности, что могло свидетельствовать об изменениях слизистой оболочки матки вследствие послеабортивных инфекционно-воспалительных процессов, которые в свою очередь могли отразиться на репродуктивной функции и течении беременности в дальнейшем.
При анализе репродуктивных потерь у пациенток основной группы неоднократные самопроизвольные выкидыши отмечались у 17%, искусственное прерывание беременности 3 раза и более – у 27%, прерывание беременности по медицинским показаниям у 4,5%. Таким образом, количество пациенток с внутриматочными вмешательствами в основной группе было в 2 раза выше, чем в контрольной группе. У пациенток контрольной группы угроза прерывания беременности была выявлена в 43% наблюдений, в связи с чем проводилась терапия, направленная на пролонгирование гестации. Двум пациенткам в связи с истмико-цервикальной недостаточностью был введен акушерский пессарий. Умеренная и тяжелая преэклампсия в основной группе была диагностирована у 29 женщин из 70 (почти 41,5%). В контрольной группе умеренная преэклампсия осложнила течение беременности только у двух из 30 пациенток (7%). Прибавка массы тела, составляющая более 20 кг к концу гестационного срока, отмечалась в 60% наблюдений у пациенток основной группы против 8,5% в контрольной группе.
Анализ перинатальных исходов в основной группе показал высокую частоту детей, родившихся в состоянии хронической гипоксии (46% против 23% в контрольной) и острой гипоксии плода – 17% в основной группе.
Частота заболеваний желудочно-кишечного тракта у женщин основной группы отмечалась в 4 раза реже (44%), чем в контрольной группе. В I группе женщин заболевания щитовидной железы (узловой зоб, гипотиреоз, гипертиреоз) также встречались чаще (27% против 7% в контрольной группе). Пациентки получали терапию, направленную на восстановление тиреоидного статуса.
В 37% наблюдений у пациенток основной группы диагностировались инфекции, передаваемые половым путем, а также воспалительные заболевания матки и придатков, что может быть связано со снижением иммунологической и неспецифической реактивности организма, а также запоздалым выявлением и лечением. Была выявлена высокая частота эктопии шейки матки – 27%, что, возможно, связано с наличием вируса папилломы человека. Указания на нарушение менструального цикла в основной группе составили 16% (чаще у пациенток с нарушением жирового обмена), что было почти в 4 раза выше, чем в контрольной группе. Опухолевидные образования яичников – почти у 1,5%, миома матки – 4,3% и пороки развития внутренних половых органов – 1,4% наблюдались только в основной группе.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о более частых осложнениях, встречавшихся в основной группе, следствием чего стали иммунные нарушения, проявлявшиеся в измененных профилях сывороточной иммунореактивности (табл. 1).

Приведенные результаты (табл. 1) позволяют сделать ряд выводов: у матерей, родивших ребенка с РАС в профилях иммунореактивности наиболее часто (более чем у 30% женщин) выявлялись аномалии, ассоциированные со следующими аутоантителами (АТ):
- АТ к TG (тироглобулину) – в 41% (n=28) – против 7% в контрольной группе;
- АТ к beta2-GPI 38% (n=26) – против 7% в контрольной группе;
- АТ к TrM-03 38% (n=26) – против 10% в контрольной группе;
- АТ к TSH-R 33% (n=23) – против 3% в контрольной группе;
- АТ к Spr-06 33% (n=23) – против 10% в контрольной группе;
- АТ к betaAR 31% (n=22) – против 7% в контрольной группе.
У женщин контрольной группы ни в одном случае не было выявлено избытка антител к Fc-фрагментам IgG (ревматоидный фактор), а также избытка антител к антигенам желудка (GaMS) и толстого кишечника (ScM). Тогда как в основной группе аномалии соответствующих антител отмечались в 26, 22 и 29% наблюдений соответственно (табл. 1). Аномалии, ассоциированные с аутоАТ к GaMS (маркеры изменений в стенках желудка), ItM-07 (тонкий кишечник) и ScM (толстый кишечник), отмечались только основной группе, за исключением 1 женщины в контрольной группе, у которой была выявлена аномалия, ассоциированная с аутоАТ к ItM-07 (тонкий кишечник). Желудочно-кишечный тракт – важное звено иммунитета. Кишечник – это самый большой иммунный орган человека. Около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано в слизистой оболочке кишечника, около 25% слизистой оболочки кишечника состоит из иммунологически активной ткани и клеток, каждый метр кишечника взрослого человека содержит около 1010 лимфоцитов. Это может быть одной из причин того, что нарушения со стороны иммунной системы существенно более часто встречались у женщин основной группы.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что нарушения в эндогенной опиатной системе, отражаемые в аномалиях сывороточной иммунореактивности антител к β-Endorphin и µ-Opioid-R рецепторам, в совокупности встречались у 77% женщин, родивших детей РАС, но только у 7% женщин контрольной группы. Это хорошо коррелирует с ранее полученными данными о том, что изменения в опиатной системе типичны для 87% детей с данной нейропатологией и только для 10% нормотипичных детей того же возраста [14].
Помимо того, у матерей, родивших ребенка с РАС, в профилях иммунореактивности наиболее часто выявлялись аномалии, ассоциированные со следующими аутоАТ:
- АТ к NF200 26% (n=18) – против 0% в контрольной группе;
- АТ к GFAP 25% (n=17) – против 3% в контрольной группе;
- АТ к 5HT-R 23% (n=16) – против 0% в контрольной группе;
- АТ к S100 22% (n=15) – против 7% в контрольной группе;
- АТ к MBP 22% (n=15) – против 3% в контрольной группе.
У женщин контрольной группы ни в одном случае не было выявлено избытка антител к NF200, 5HT-R, Ca-chan, Glu-R, GABA-R, а также к Ach-Rc.
Это также хорошо коррелирует с ранее полученными данными о сравнительных частотах соответствующих изменений детей с аутизмом и нормотипических детей [14].
Типичные и сходные профили сывороточной иммунореактивности у матерей, родивших детей с РАС, определяемые антителами к антигенам нервной ткани, служат еще одним дополнительным указанием на важную роль материнского иммунного импринтинга в эпигенетическом наследовании ребенком основных черт иммунореактивности матери [5, 12].
Заключение
Полученные нами данные позволяют предполагать, что выявление характерных изменений в профилях иммунореактивности, определяемых аутоантителами к компонентам опиатной системы, АТ к NF200, 5HT-R, Ca-chan, Glu-R, GABA-R, S100, Ach-Rc и некоторым другим, могут служить указанием на повышенный риск рождения детей с РАС.
Иммунная система матери играет важную роль в патогенезе внутриутробного формирования РАС у ребенка, а некоторые аутоантитела женщин, планирующих беременность, могут использоваться в качестве молекул-маркеров в риске рождения ребенка с данной патологией. Разработка специализированных иммунохимических методов анализа антител-маркеров уже в скором времени может являться важной задачей в организации широкого скрининга женщин, планирующих беременность.
Методы «ЭЛИ-Тест» позволяют проанализировать состояние организма в целом, а также объективно выявить имеющиеся или намечающиеся изменения со стороны отдельных органов и систем тела человека с помощью анализа сывороточного содержания разных маркерных ауто-АТ класса IgG. ЭЛИ-Тесты могут и должны использоваться не только для диспансерного наблюдения, они позволяют выявить причины и разобраться с патогенезом атипичных клинических форм многих заболеваний, то есть помогают установить правильный диагноз в сложных и не вполне ясных случаях.
Особо необходимо отметить незаменимость методов группы ЭЛИ-Тестов при планировании и подготовке беременности, преимущественно у женщин с отягощенным акушерским анамнезом и вторичным бесплодием. Использование методов ЭЛИ-Тестов иногда является единственным способом, позволяющим разобраться с причинами нарушений репродуктивной функции, провести адекватное лечение и обеспечить женщине возможность родить здорового ребенка. Методы группы ЭЛИ-Тест вовсе не подменяют собой другие виды исследований пациента, но, напротив, позволяют подойти к их назначению наиболее обоснованно, с учетом индивидуальных показаний. По результатам ЭЛИ-Тестов не определяется диагноз, а выявляются патологические процессы, в том числе доклинические, которые происходят в популяциях определенных клеток, в тканях и органах и находят свое отражение в изменениях продукции строго определенных маркерных ауто-АТ. Иными словами, с помощью ЭЛИ-Тестов в режиме скрининга проводится объективная «молекулярная диспансеризация» организма. И при необходимости назначаются углубленные исследования, направленные на уточнение характера и степени выраженности изменений в затронутом органе или ткани, после коррекции которых провозят контрольное исследование с дальнейшими рекомендациями по планированию беременности.
Данные методы могли бы оказаться эффективными для предотвращения или снижения частоты рождения детей, страдающих РАС.