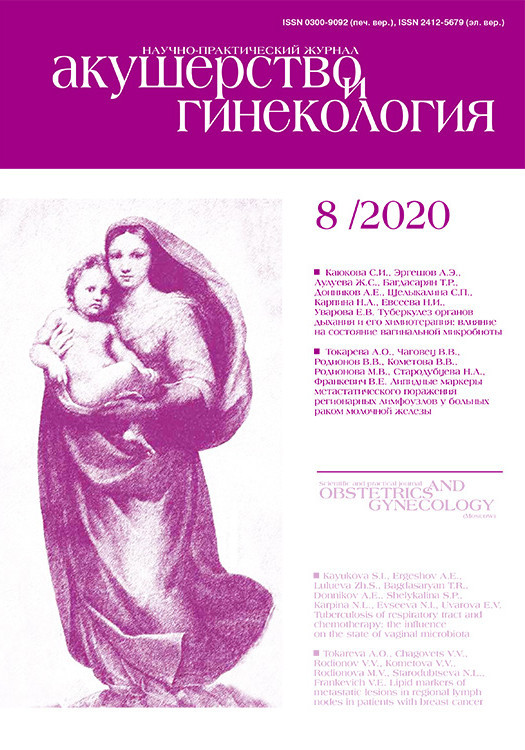Эндометриоз – хроническое воспалительное иммуно- и гормонозависимое системное гетерогенное заболевание, которое представлено тремя основными фенотипами (поверхностный перитонеальный эндометриоз, эндометриома и глубокий инфильтративный эндометриоз), примерно у 30% пациенток сочетается с аденомиозом [1]. Эндометриоз диагностируется у каждой 10-й женщины репродуктивного возраста, примерно 200 миллионов случаев зафиксировано во всем мире [2]. Эндометриоз часто сопровождается выраженной тазовой болью и бесплодием, резко снижает качество жизни и ложится существенным социально-экономическим бременем как на женщин, так и на органы здравоохранения. О значимости этой проблемы говорит создание в октябре 2019 г. объединения «Мировые Организации Эндометриоза» (World Endometriosis Organisations (WEO)) на базе Всемирного общества по эндометриозу (World Endometriosis Society (WES)) для решения глобальных проблем, связанных с эндометриозом, и улучшения последствий для здоровья пациенток [2].
Ghiasi и соавт. провели систематический поиск и представили масштабный обзор данных наблюдательных исследований о распространенности, уровне заболеваемости и стадиях эндометриоза во всем мире за прошедшие 30 лет [3]. Однако авторам не удалось обнаружить какой-либо четкой временной динамики показателей заболеваемости, что, по-видимому, объясняется разнородностью данных в зависимости от изучаемой популяции женщин. Следует заметить, что в популяционных исследованиях истинная распространенность заболевания, как правило, недооценивается из-за трудностей с диагностикой, в то время как полученные в отдельных клиниках и специализированных центрах показатели, наоборот, могут быть завышенными [3].
За последние годы значительно пополнились знания о патогенезе эндометриоза, возможностях неинвазивных методов диагностики, изменились подходы к ведению пациенток, однако заболевание продолжает сохранять «ореол загадочности» [4]. Обсуждаются обоснованность и/или последовательность хирургического и медикаментозного лечения, в последних рекомендациях по ведению пациенток с эндометриозом указывается на возможность назначения эмпирической терапии [5–7]. К сожалению, большинство женщин будут вынуждены «жить с эндометриозом» – заболеванием, которое можно лечить, но на современном уровне знаний пока нельзя вылечить [1]. На каком-то этапе многим пациенткам придется подвергнуться хирургическому вмешательству, в идеале – только один раз в течение своей жизни. Крайне важно, что медикаментозное лечение обеспечивает эффективное облегчение тазовой боли и сохраняет фертильность, что позволяет врачу выбрать для каждой пациентки оптимальное время для операции, чаще, когда встанет вопрос о реализации репродуктивных планов [1].
Некоторые аспекты патогенеза эндометриоза
Наиболее распространенная гипотеза Сэмпсона об инвазии клеток эндометрия, попадающих на брюшину в результате ретроградной менструации, а также ангиогенном или лимфогенном распространении этих клеток, как и теория целомической метаплазии, если рассматривать ее как развитие обратимых изменений и нарушений поведения/морфологии клеток, возникающих под влиянием измененного микроокружения, не могут объяснить происхождение и многообразие всех случаев заболевания.
Известный эксперт в области эндометриоза проф. Koninckx и его коллеги полагают, что для развития перитонеального эндометриоза, эндометриомы или глубокого инфильтративного эндометриоза необходим набор генетических и эпигенетических «поломок», переданных женщине при рождении и объясняющих некоторые наследственные аспекты: предрасположенность к развитию заболевания и специфические нарушения в эндометрии, иммунологических реакциях и механизмах плацентации [8].
Предрасположенность женщин к развитию эндометриоза оценивалась в нескольких крупных популяционных исследованиях по изучению взаимосвязи между геномными вариантами и фенотипическими признаками заболевания с помощью genome-wide association analysis (GWAS) [9], а также генотипирования однонуклеотидных полиморфизмов (single nucleotide polymorphisms (SNPs)) [10, 11], были обнаружены четкие закономерности.
Еще один признанный эксперт по проблемам эндометриоза, проф. Bulun, и его коллеги подробно рассмотрели важнейшие аспекты патогенеза эндометриоза и описали его как сложный синдром, связанный с эстрогензависимым хроническим воспалительным процессом, который поражает прежде всего органы малого таза, включая яичники [12]. Базовые патогенетические механизмы как генитальной, так и экстрагенитальной формы эндометриоза включают дефектное программирование эндометриальных мезенхимальных прогениторных/стволовых клеток. Хотя стромальные клетки, составляющие основу эндометриоидных поражений, не несут каких-либо соматических мутаций, они демонстрируют специфические эпигенетические отклонения, изменяющие экспрессию ключевых транскрипционных факторов [12]. Например, чрезмерная экспрессия GATA-связывающего фактора-6 (GATA-binding factor-6) трансформирует стромальные клетки эндометрия с нормальным фенотипом в эндометриоидные клетки, в которых чрезмерная экспрессия стероидогенного фактора-1 (steroidogenic factor-1) ведет к гиперпродукции эстрогенов и патологически высокой экспрессии эстрогеновых рецепторов-β (ЭР-β), что способствует развитию воспаления [12]. Дисрегуляция синтеза эстрогенов и нарушение экспрессии/соотношения обоих подтипов ЭР – ключевой признак эндометриоза [13, 14].
Еще одно важное звено патогенеза эндометриоза – резистентность к прогестерону, которая определяется как сниженный клеточный ответ на воздействие естественного прогестерона [12]. Механизмы развития этого нарушения связаны с отклонениями в генетическом и эпигенетическом регулировании прогестероновых рецепторов (ПР), существующих в двух изоформах (ПРА и ПРВ). Причем именно ПРB действуют как транскрипционные активаторы генов-мишеней для прогестерона. Важно, что экспрессия ПР зависит от уровня экспрессии и баланса подтипов ЭР (ЭР-β/ЭР-α) [12]. Повышение эстрогенного микроокружения индуцирует воспалительные процессы в эуто- и эктопическом эндометрии вследствие повышения активности провоспалительных цитокинов, особенно интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), в свою очередь, это способствует усилению нарушений клеточного ответа на прогестерон за счет метилирования гена ПРВ [15]. Окислительный стресс и повышение уровня высокореактивных молекул кислорода в перитонеальной жидкости – еще один механизм, вовлеченный в развитие резистентности к прогестерону [16].
Несмотря на то, что эндометриоз впервые был описан более 100 лет тому назад, до настоящего времени активно изучаются механизмы, лежащие в основе формирования его главного симптома – хронической тазовой боли (ХТБ), что крайне важно для оптимизации принципов терапии [17]. Патофизиология связанной с эндометриозом боли включает, наряду с воспалительными и гормональными нарушениями, изменения в проводящих боль сигнальных путях головного мозга [18, 19]. В многочисленных исследованиях изучались характеристики эндометриоза, обусловливающие разнообразные болевые симптомы, например, вовлечение в патологический процесс различных органов и тканей, имеющих общую иннервацию с пораженными эндометриозом органами из-за перекрестных висцеро-висцеральных взаимодействий нервных путей на периферии (перекрестная сенсибилизация) с последующим закономерным вовлечением центральной нервной системы (ЦНС) [20]. В очагах эндометриоза по сравнению с интактной брюшиной было обнаружено повышение экспрессии нервных волокон и нейроактивных веществ (периферическое нейровоспаление) [21]. Выявлена важная роль сопутствующих локальных иммунологических нарушений. Так, например, модифицированные макрофаги вместо элиминации эктопических клеток эндометрия активируют процессы, усиливающие рост эндометриоидных поражений, неоангиогенез, способствуют увеличению роста нервов в очагах эндометриоза и экспрессии генов, необходимых для обработки болевых сигналов и повышения чувствительности к боли (гипералгезии) [22]. К тому же у женщин с эндометриозом и ХТБ обнаружены более низкие пороги боли по сравнению с женщинами контрольной группы, что подтверждает наличие центральной сенситизации, коррелирующей с продолжительностью заболевания [23].
Таким образом, в настоящее время вектор научных исследований направлен на дальнейшее изучение и лучшее понимание патофизиологии эндометриоза, которое открывает новые возможности для развития методов неинвазивной диагностики и оптимизации подходов к терапии.
Совершенствование принципов диагностики эндометриоза
Золотым стандартом диагностики эндометриоза считается гистологическое исследование биоптатов эндометриоидной ткани, однако их получение – процедура инвазивная и дорогостоящая [6]. На практике хирургическое вмешательство часто бывает отсроченным, особенно при недостаточной выраженности симптомов или в случае отказа пациентки от лапароскопии. Обследование на эндометриоз и постановка окончательного диагноза – затратный по времени процесс, что может быть связано с недостаточными знаниями врачей, со сложностью патогенеза, существованием трех фенотипов заболевания, а также с возможностью его бессимптомного течения на начальных этапах и потенциальной коморбидностью с аденомиозом [1]. Задержка с постановкой диагноза может составлять от 3,3 до 10,7 года, и это остается основной проблемой, способствующей прогрессированию заболевания и снижению эффективности лечения [1, 3]. В таких случаях определяемые в сыворотке крови или в эндометрии биомаркеры с высокой прогностической значимостью могли бы сократить время до постановки диагноза и назначения надлежащего лечения. Однако их поиск оказался непростой задачей, которую международное научное сообщество решает до настоящего времени.
Биомаркеры эндометриоза
По данным кокрейновского обзора, ни один из 122 биомаркеров, таких как ИЛ-6, CA125, CA19-9, антитела к эндометрию и др., изученных в сыворотке крови 15 000 женщин с эндометриозом, не достиг необходимых порогов чувствительности (>95%) и специфичности (>50%) [24]. В обнаруженных пределах они могут быть повышены при других доброкачественных гинекологических заболеваниях. В одном из исследований проводилась оценка уровня цитокинов (ИЛ-6 и ФНО-α) и ряда хемокинов, связанных с хроническим воспалением, продуцируемых макрофагами, лимфоцитами и мезотелиальными клетками, которые могут способствовать развитию и прогрессированию эндометриоза [25]. Оказалось, что они не подходят для диагностического тестирования из-за высокой частоты ложноположительных результатов. Нельзя исключить, что эндометриоидные очаги малого размера не секретируют эти вещества в достаточном для детекции количестве, или отдельные формы эндометриоза могут выделять разные биомаркеры [26]. Поскольку эндометриоз развивается в микроокружении с доминированием эстрогенов, в недавнем метаанализе данных 17 исследований авторы оценивали значимость 7 параметров, ассоциированных с синтезом половых стероидов у 1279 женщин с эндометриозом. Чувствительность 79% и специфичность 89% были выявлены только для ароматазы [27]. Авторы полагают, что именно этот фермент может стать хорошим диагностическим маркером. Однако рассматриваемые ими исследования были недостаточно высокого качества, поэтому данный вопрос требует дальнейшего изучения.
К сожалению, поиск биологически активных веществ, тестируемых в качестве потенциальных биомаркеров, в эндометрии и в менструальной крови пациенток с эндометриозом также не дал обнадеживающих результатов [28, 29], как и потенциальные тесты для генетического скрининга [11, 24, 26]. Таким образом, несмотря на все усилия ученых и большую востребованность, до настоящего времени нет ни одного общепринятого неинвазивного теста или комбинации нескольких тестов для диагностики эндометриоза, контроля за эффективностью лечения и прогноза течения заболевания.
Визуальные методы диагностики эндометриоза
В связи со значительным прогрессом в развитии методов визуальной диагностики (трансвагинальное УЗИ, трансректальное УЗИ и магнитно-резонансная томография (МРТ)), лапароскопию не следует рутинно использовать для обнаружения эндометриоидных поражений. Постановка диагноза должна представлять собой структурированный процесс, включающий тщательный опрос и сбор анамнеза (характер болевых ощущений, частый абсентеизм из-за тазовой боли, неблагоприятный семейный анамнез и др.) [30], клиническое обследование и использование методов визуализации [31]. Такая стратегия, как правило, позволяет выявить эндометриоз и избежать диагностической лапароскопии.
Неинвазивные методы диагностики имеют особую значимость для пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом, поскольку они нередко проходят долгий путь от момента появления первых признаков заболевания до постановки окончательного диагноза [32]. Moura и соавт. включили в метаанализ только те исследования, в которых оценивалась точность УЗИ по сравнению с МРТ для диагностики ректосигмоидного эндометриоза у одних и тех же пациенток, с учетом результатов последующего хирургического лечения с гистологическим подтверждением диагноза [33]. Авторы пришли к заключению, что MРТ и УЗИ обладают одинаково высокой точностью для диагностики этой формы эндометриоза. Они отметили: «При идеальном сценарии в учреждении с высокими экспертными знаниями специалистов в области визуализации эндометриоза УЗИ должно использоваться в качестве начального метода, а MРТ – дополнительно в неясных случаях. Это позволит повысить точность постановки правильного диагноза практически до 100%» [33]. В 2020 г. опубликовано Консенсусное заключение Общества по абдоминальной радиологии (Society of Abdominal Radiology), в котором представлены технические рекомендации по оптимизации проведения MРТ с целью диагностики эндометриоза. Это подтверждает значимость проблемы и свидетельствует о значительном интересе к ней специалистов-радиологов [34].
Важно отметить, что трансвагинальное УЗИ и МРТ подходят не только для диагностики эндометриом и глубокого инфильтративного эндометриоза, но и сопутствующего аденомиоза, который выявляется примерно у 30% женщин с различными формами эндометриоза [1]. До недавнего времени аденомиоз окончательно диагностировали лишь путем гистологического исследования полученной при гистерэктомии ткани миометрия. В настоящее время рекомендуется интегрированный неинвазивный диагностический подход, учитывающий профиль факторов риска, клинические симптомы, данные гинекологического обследования и визуализации для точной диагностики аденомиоза [35]. Результаты нового структурированного обзора и метаанализа показали, что трансвагинальное УЗИ и МРТ являются сопоставимыми по точности неинвазивными методами диагностики аденомиоза. Это позволяет рекомендовать трансвагинальное УЗИ в качестве диагностического метода первой линии [36]. В том случае, если его использование не позволит сделать окончательный вывод, следует применить МРТ как метод диагностики второй линии.
Chapron и соавт. полагают, что пора менять парадигму существующей клинической практики в отношении эндометриоза [1], поскольку при использовании современных методов визуализации диагноз может быть поставлен без хирургического вмешательства и безопасно назначено лечение без обязательного гистологического подтверждения эндометриоза [5–7].
Изменение методологических подходов к ведению пациенток с эндометриозом
В последние годы произошли существенные изменения в методологическом подходе к ведению пациенток с эндометриозом. Большинство экспертов соглашаются, что эндометриоз – это хроническое заболевание, требующее долгосрочной медикаментозной терапии вне зависимости от проведения хирургического лечения. Более того, поскольку купирование симптомов – основная цель лечения, а диагноз может быть основан на характерных клинических симптомах и признаках заболевания, это дает возможность назначать эмпирическое лечение с применением гормональных препаратов при подозрении на эндометриоз без гистологического подтверждения диагноза [5–7]. Конечно, такой выбор можно сделать в отсутствие установленных показаний для хирургического лечения (эндометриомы размером >4 см, выраженный болевой синдром или распространенные формы глубокого инфильтративного эндометриоза с нарушением функции смежных органов).
К сожалению, в большинстве медицинских центров клиницисты продолжают придерживаться следующей последовательности в методах диагностики и лечения: хирургический диагноз эндометриоза, короткий курс послеоперационного медикаментозного лечения, в случае рецидива – повторное хирургическое лечение и лишь в конце, зачастую на фоне снижения овариального резерва, рекомендуют вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). В рамках концепции «жизнь с эндометриозом» Chapron и соавт. предлагают три подхода к ведению пациенток, у которых диагноз устанавливается с помощью методов визуализации, а лечение строится в зависимости от репродуктивных планов.
Итак, если на данный момент времени женщине не нужна беременность, следует назначить медикаментозное лечение без предварительного хирургического вмешательства и проводить его до тех пор, пока не встанет вопрос о реализации репродуктивной функции. Если беременность спонтанно не наступает после отмены лечения, врач должен сделать выбор в пользу хирургического лечения или ВРТ, при этом оба подхода характеризуются сходными репродуктивными результатами [1]. Второй вариант лечения подходит пациенткам, которые отказываются от хирургического вмешательства или оно им противопоказано, тогда можно сразу предложить ВРТ. При указанных выше подходах, после родов пациентки должны находиться под наблюдением врача и получать длительное медикаментозное лечение для профилактики рецидивов. Важно, что при втором варианте лечения, возможно, удастся вообще избежать хирургического вмешательства, если медикаментозное лечение окажется эффективным и будет хорошо переноситься.
Возможен и третий вариант, при котором последовательность методов лечения схожа с таковой при втором варианте, поскольку также используется ВРТ без предварительного хирургического лечения, затем назначается длительная медикаментозная терапия и последней в «списке» стоит единственная операция. Это, как правило, касается пациенток с тяжелой ХТБ, у которых гормональное лечение неэффективно и/или плохо переносится, или женщина «устала» его получать. В случаях с сопутствующим аденомиозом хирургическое лечение может быть радикальным (гистерэктомия) [1].
Среди гормональных методов лечения эндометриоза наиболее широко используются назначаемые по одобренным показаниям прогестины и комбинированные оральные контрацептивы (КОК), не имеющие зарегистрированных показаний для лечения эндометриоза.
Прогестины или КОК?
Несмотря на то что в руководящих документах рекомендуется назначение КОК или прогестинов в качестве медикаментозной терапии первой линии [6, 7], в последнее время появляется все больше доказательств о преимуществах именно прогестинов для лечения эндометриоза как эстрогензависимого заболевания [37–39]. Результаты сравнительного 6-месячного исследования двух препаратов – комбинации этинилэстрадиола с диеногестом и «чистого» диеногеста в дозе 2 мг/сут по влиянию на размер эндометриом у женщин в возрасте от 20 до 42 лет показали, что, несмотря на улучшение болевых симптомов в обеих группах, на фоне комбинированного препарата не наблюдалось существенного уменьшения размеров кист в отличие от группы женщин, получавших чистый диеногест [40]. Этот аспект представляется важным с клинической точки зрения, поскольку появляется потенциальная возможность избежать последующего хирургического вмешательства. Результаты данного исследования еще раз поднимают вопрос о безопасности применения КОК у женщин с эндометриозом в долгосрочной перспективе. Следует отметить, что даже в низкодозированных КОК присутствуют супрафизиологические концентрации эстрогенов, это может поддерживать рост и развитие эндометриальных клеток, в том числе, во время ретроградных менструаций [37–39]. Именно поэтому КОК могут быть менее эффективны для снижения боли и, возможно, неэффективны для подавления прогрессирования заболевания по сравнению с прогестинами [13, 14, 41].
Хотелось бы отметить, что многие клиницисты продолжают широко использовать КОК для лечения эндометриоза без четких клинических доказательств их эффективности. Только в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) проводилось сравнение эффективности КОК с другими препаратами, одобренными для лечения эндометриоза. В систематическом обзоре Seracchioli и соавт. приведены данные о том, что КОК не оказывают должного влияния на нециклическую тазовую боль и диспареунию [42]. В исследовании Yong и соавт. 18–28% пациенток с эндометриозом, начавших лечение КОК, нашли его неэффективным в отношении снижения интенсивности боли, а 16–25% отказались от дальнейшего приема из-за побочных эффектов [43]. Действительно, КОК часто используются в качестве терапии первой линии тазовой боли, связанной с эндометриозом, однако пациентки нередко сообщают о неэффективности такого лечения, даже отмечают усиление боли, особенно в области мышц тазового дна, и высказывают желание прекратить лечение из-за побочных эффектов [43]. Авторы статьи пришли к заключению, что неэффективность КОК может быть связана с многофакторным генезом болевого синдрома, который включает участие нервной системы, миофасциальных механизмов и повышение чувствительности к боли. Они полагают, что наличие миалгии тазового дна может являться прогностическим маркером недостаточной эффективности терапии КОК [43]. Согласно результатам систематического обзора Becker и соавт., от получения КОК при эндометриозе из-за побочных эффектов отказались от 5 до 24% женщин [44].
Безусловно, особую важность для клиницистов должны представлять долговременные последствия применения КОК. Результаты систематического обзора и метаанализа данных 18 исследований с различным дизайном показали, что КОК уменьшают относительный риск (ОР) развития эндометриоза у текущих пользователей (ОР 0,63; 95% ДИ 0,47–0,85), но потенциально повышают риск его развития у тех, кто применял их ранее (ОР 1,21; 95% ДИ 0,94–1,56) [45]. Так, Chapron и соавт. показали, что использование КОК для лечения дисменореи в анамнезе коррелирует с обнаружением эндометриоза в последующем, особенно глубокой инфильтративной формы. Авторы объяснили это наличием эстрогенного компонента в их составе [46]. Представленные данные показывают недостаточную эффективность КОК для снижения различных типов боли, ассоциированной с эндометриозом, за исключением дисменореи. Особенно нежелательно проводить такое лечение женщинам, откладывающим беременность на более поздние сроки, т.к. прогрессирование заболевания и потенциальное развитие в дальнейшем более тяжелых форм эндометриоза могут вообще лишить женщину возможности реализовать репродуктивные планы.
Эффективность прогестинов при эндометриозе
В клинических протоколах в качестве терапии первой линии для лечения эндометриоза рекомендуются прогестины, обладающие многими преимуществами по сравнению с другими вариантами лечения [37–39]. Они могут снижать связанную с эндометриозом боль и уменьшать распространенность эндометриоидных очагов за счет следующих механизмов: индуцирование ановуляции, снижение экспрессии ароматазы и 17β-гидроксистероид-дегидрогеназы-1 (17βГСД-1), усиливающих активность эстрогенов на локальном уровне, изменение экспрессии ЭР, ингибирование ангиогенеза и снижение содержания матриксных металлопротеиназ, необходимых для роста эндометриоидных имплантатов [37–39]. Прогестин четвертого поколения диеногест в дозе 2 м/сут (препарат Визанна) специально разрабатывался для лечения эндометриоза и в настоящее время широко и успешно используется с этой целью во многих странах мира [47]. Международная группа экспертов провела поиск статей в PubMed, опубликованных за период 2007–2019 гг., и подготовила обзор результатов исследований, касающихся многих клинических аспектов использования диеногеста (текущие научные данные получены на оригинальном препарате) у пациенток с различными формами эндометриоза, при этом оценивались эффективность и профиль безопасности препарата [48]. Важно отметить, что эксперты во многом опирались на собственный клинический опыт, и это особенно ценно для практикующего врача. Авторы обзора отмечают, что эффективность препарата следует оценивать прежде всего по его воздействию на боль и качество жизни женщин. К настоящему времени получены многочисленные доказательства в поддержку высокой эффективности диеногеста для лечения всех видов эндометриоз-ассоциированной боли, включая ХТБ, дисменорею, диспареунию, дизурию и дисхезию [48]. Выраженный анальгетический эффект препарата связан с ингибированием синтеза эстрогенов за счет подавления активности стероидогенных ферментов, снижением способности эндометриоидных клеток к выживанию и пролиферации в условиях быстрого формирования новых сосудов (ангиогенез) и нервов (нейрогенез) и, наоборот, с усилением апоптоза эндометриоидных клеток [49, 50]. Важной отличительной чертой диеногеста является его способность преодолевать резистентность к прогестерону за счет повышения содержания активирующей изоформы ПРВ по отношению к ПРА [51]. Как уже отмечалось, нарушение клеточного ответа на прогестерон значительно усиливается в воспалительной среде. Проведен систематический обзор данных исследований in vitro и in vivo с целью изучения влияния диеногеста на многочисленные факторы, ответственные за контроль над процессами воспаления в эутопическом эндометрии и в эндометриоидных клетках, показавший его способность ослаблять иммуновоспалительный ответ на локальном уровне [52].
Лечение диеногестом в дозе 2 мг/сут может продолжаться так долго, как того потребует конкретная клиническая ситуация, например, возникнут планы на беременность [48]. Препарат может использоваться как в качестве эмпирического лечения при подозрении на эндометриоз, так и после хирургического подтверждения диагноза и оперативного лечения, а также в тех случаях, когда хирургическое лечение противопоказано или несет существенные риски.
Для клиницистов важны практические советы экспертов относительно возможных изменений менструального цикла, о которых пациентки должны быть информированы перед началом лечения [48]. Эксперты выделяют два типа нерегулярных кровотечений на фоне приема диеногеста в дозе 2 мг/сут: кровотечения в течение первых нескольких месяцев, которые могут носить последовательный характер и обычно длятся 8–10 дней, и незначительные мажущие кровяные выделения при длительном приеме препарата. Режим лечения, при котором вначале назначается одна инъекция агониста гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) с последующим длительным лечением диеногестом снижает вероятность появления начальных нерегулярных кровотечений [53]. Кроме того, терапию лучше начинать в первые дни менструального цикла, что также позволяет снизить вероятность появления непрогнозируемых кровянистых выделений из половых путей. Кровотечения, возникающие при длительном использовании диеногеста, могут быть связаны с атрофическими изменениями в эндометрии, в случае тонкого эндометрия можно прекратить лечение на 5–7 дней или на такое же время назначить трансдермальный или пероральный эстрадиол в дозе 1 мг для нормализации состояния эндометрия [48].
Диеногест можно использовать как до и/или после операции, так и, в некоторых случаях, в качестве альтернативы хирургическому лечению при эндометриомах малого размера и глубоком инфильтративном эндометриозе, которые могут нанести существенный ущерб здоровью и репродуктивному потенциалу женщин.
Эндометриоидные кисты яичников (эндометриомы)
Являются достаточно распространенной формой эндометриоза, по разным данным, встречаются в 17–44% всех случаев заболевания. При этом одной из ключевых проблем остается высокая частота рецидивов после хирургического лечения (12–30% в течение 2–5 лет), особенно среди молодых женщин. В связи с этим, согласно имеющимся клиническим рекомендациям, после операции должно назначаться длительное ингибирующее лечение, показания же для повторного хирургического вмешательства при рецидиве опухоли следует рассматривать с большой осторожностью [6]. Многочисленные исследования показали, что длительная (от 1 года до 5 лет) терапия диеногестом обладает хорошим профилем безопасности и переносимости, высокоэффективна не только для профилактики рецидива эндометриом после хирургического лечения и купирования эндометриоз-ассоциированной боли [54, 55], но и для уменьшения размеров рецидивирующих кист [56, 57].
Следует отметить, что отдельные прогестины отличаются по своей структуре и активности. Это доказывают результаты недавно опубликованного исследования, в котором сравнивалась эффективность двух прогестинов – диеногеста и норэтиндрона ацетата в отношении размеров эндометриом, купирования симптомов боли и переносимости препаратов. Авторы обнаружили более сильное влияние на симптомы боли и лучшую переносимость диеногеста [58]. Преимущества диеногеста могут быть связаны с более выраженным противовоспалительным влиянием и способностью преодолевать резистентность к прогестерону [51, 52].
Глубокий инфильтративный эндометриоз
В последнее время многие известные эксперты в области эндометриоза склоняются к более осторожному выбору хирургического лечения при глубокой инфильтративной форме этого заболевания [59], если нет четких показаний, таких как наличие симптомного стеноза кишечника, уретерогидронефроза, нет подозрения на злокачественную трансформацию очага эндометриоза, или случаев, когда гормональное лечение ХТБ неэффективно или плохо переносится. Несмотря на то что хирургическое лечение глубокого инфильтративного эндометриоза эффективно для купирования дисменореи, диспареунии и дисхезии, в течение года после операции более чем у 90% женщин оно может сопровождаться серьезными осложнениями, кроме того, велик риск рецидивов в случае отказа от последующего послеоперационного медикаментозного лечения.
В настоящее время имеются данные о том, что диеногест может быть эффективен при глубоком инфильтративном эндометриозе как до операции, так и в послеоперационном периоде, а также при наличии противопоказаний для хирургического лечения [60, 61]. Препарат может оказаться особенно полезным в трудных клинических ситуациях, связанных с сочетанием эндометриоза и аденомиоза. Стоит отметить, что, несмотря на целый ряд исследований, в вопросе генеза аденомиоза различной локализации, особенно в сочетании с глубокой инфильтративной формой эндометриоза, остается много неясного [62, 63]. Хотя совершенствование методов визуализации повысило частоту выявления аденомиоза и он значительно «помолодел», дорогостоящая МРТ проводится нечасто, и заболевание может остаться недиагностированным. Поэтому важно, что за последнее время диеногест проявил себя в качестве эффективного средства как для лечения глубокого инфильтративного эндометриоза [60, 61], так и аденомиоза [64–66].
Являясь достаточно частым заболеванием, эндометриоз оказывает крайне негативное влияние на связанное со здоровьем качество жизни (health-related quality of life (HRQoL)). Результаты крупного проспективного исследования, проведенного в условиях реальной клинической практики на популяции азиатских женщин, принимавших диеногест в дозе 2 мг/сут (препарат Визанна) в течение 2 лет, убедительно продемонстрировали выраженное ослабление боли, оцененной по общепринятой методике (Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30)), и повышение показателя HRQoL [67]. Это тем более важно, что именно улучшение качества жизни пациентки является главной целью лечения и повышает приверженность избранному методу терапии.
Эндометриоз – хроническое заболевание, и значительная часть пациенток вынуждены жить с ним многие годы. С нашей точки зрения, очень четкие и, несомненно, важные для клинициста выводы, касающиеся медикаментозного лечения эндометриоза, сделанные на основе имеющихся доказательств, были сформулированы профессором Chapron и коллегами [1]:
- современное лечение эндометриоза должно быть сфокусировано на потребностях пациентки, а не на эндометриоидных поражениях как таковых;
- симптомы боли нужно начинать лечить незамедлительно, чтобы избежать центральной сенситизации (повышения чувствительности к боли), когда боль может стать автономной, возникать независимо от периферического стимула, что объясняет частое сочетание эндометриоза с другими хроническими болевыми синдромами;
- медикаментозное лечение должно быть терапией первой линии у пациенток с тазовой болью, которые на данный момент времени не заинтересованы в беременности; методы ВРТ в определенной группе пациенток с бесплодием могут быть применены без предшествующего хирургического лечения.
Заключение
На сегодняшний день стало понятно, что следует избегать хирургических вмешательств, тем более повторных, или по возможности минимизировать их негативное влияние. Адекватная медикаментозная терапия должна использоваться длительно. Во многих случаях следует сделать выбор в пользу диеногеста, обладающего рядом важных преимуществ перед комбинированными оральными контрацептивами, которые клиницисты продолжают широко использовать без одобренных показаний, несмотря на установленную недостаточную эффективность при большинстве болевых проявлений.