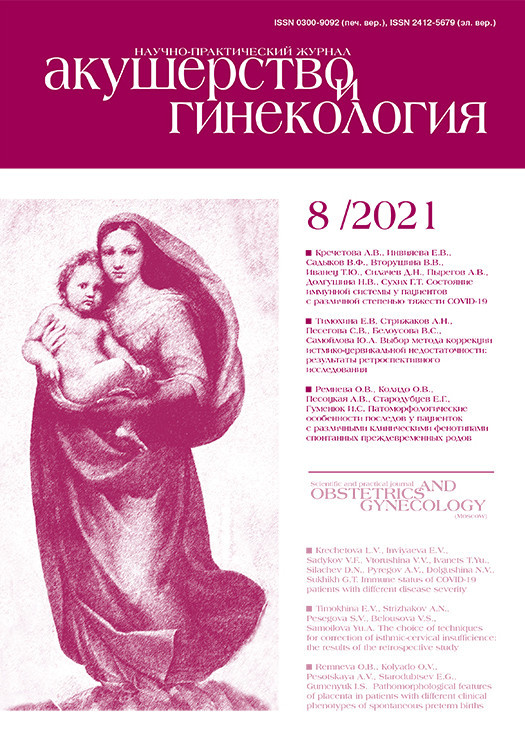Периодическая болезнь (ПБ) или семейная средиземноморская лихорадка – наследственное моногенное аутосомно-рецессивное системное заболевание, обусловленное мутациями гена MEFVс. ПБ характеризуется повторяющимися приступами асептического воспаления и поражает пациентов детородного возраста. Основным патогенетическим механизмом заболевания является гиперактивация естественного (антиген-неспецифического) иммунитета, а ведущим медиатором – интерлейкин (ИЛ)-1β [1].
Еще 30 лет назад считалось, что тяжелейший спаечный процесс в брюшной полости из-за повторяющихся приступов перитонита является основной причиной бесплодия у пациенток с ПБ. Кроме этого, почти 65% пациенток имели различные нарушения функции яичников, что в «доколхициновую эру» можно было объяснить частотой амилоидоза [2]. Однако в настоящее время с началом регулярного использования колхицина частота развития амилоидоза и спаечного процесса в малом тазу крайне низка, в связи с чем фертильность пациенток не отличается от популяционной. Тем не менее, течение беременности у пациенток с ПБ довольно сложно предсказать. Многие во время беременности достигают стойкой ремиссии, в то же время некоторым в связи с сохраняющимися приступами приходится производить коррекцию дозы колхицина, что обычно позволяет быстро справиться с воспалительным процессом. Помимо лихорадки и болевого синдрома во время приступов существует еще один неблагоприятный фактор, который часто недооценивают: асептический перитонит может привести к ранним сокращениям матки и возможным потерям беременности (до появления колхицина частота всех потерь беременности достигала 25–30%). По данным ретроспективного исследования Yasar et al. [3] у беременных пациенток с ПБ также статистически значимо чаще наблюдались повторные выкидыши (15,9%), по сравнению с контрольной группой (5,3 %).
У пациенток, не принимавших колхицин во время предыдущей или текущей беременности, было статистически значимо больше двух и более выкидышей, по сравнению с женщинами, получавшим терапию [3]. В том числе, поэтому колхицин, имеющий класс безопасности C по FDA, не изученный в адекватных исследованиях и проникающий через плаценту, используется при беременности: потенциальные выгоды оправдывают возможные риски приема колхицина во время беременности [4, 5]. Приводим описание случая тяжелого обострения ПБ во время беременности у пациентки, находящейся в полной медикаментозной ремиссии.
Клиническое наблюдение
Пациентка Ж., 1981 г.р., армянка. В семье множество случаев ПБ. В детстве по данным типичной клинической картины серозитов и артритов диагностирована ПБ. Приступы болезни длительностью 1–3 дня наблюдались с частотой 1 раз в месяц и проявлялись лихорадкой, рецидивирующим полисерозитом, купировались самостоятельно по прошествии указанного срока. С 2008 г. была начата терапия колхицином 1,0 мг/сутки с постепенным увеличением до 1,5 мг/сутки, на фоне чего в течение 6 месяцев была достигнута стойкая ремиссия. Регулярно наблюдалась по месту жительства, протеинурии более 0,1 г/л ни разу не зарегистрировано, однако контроль С-реактивного белка (СРБ) не производился. В 2012 г. выполнена лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза, диагностирован также аденомиоз и миома матки. В течение последующих 5 лет – бесплодие.
Первая беременность наступила в 2018 г. в результате ЭКО, дихориальная диамниотическая двойня. Процедуру стимуляции овуляции перенесла без осложнений. Прием колхицина не прерывался. В 16 недель пациентка впервые пожаловалась на кожный зуд. С этого момента отметила возобновление болевого синдрома, который к 20 неделям приобрел выраженный характер: боли в локтевых и тазобедренных суставах, по ходу позвоночного столба и плечевой кости, миалгии, лихорадка до 37,8°С, вынуждавшие пациентку до 3 раз в сутки принимать парацетамол 500 мг. Обследована, уровень СРБ – 32 мг/л, маркеры преэклампсии отрицательные, желчные кислоты – 16 мкмоль/л (норма менее 10); функция почек и остальные лабораторные показатели без отклонений. В связи с очевидными признаками внутрипеченочного холестаза беременных к терапии добавлены препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) с быстрой титрацией дозы до 1000 мкг в сутки; однако явления зуда сохранялись, хотя уровень желчных кислот снизился до 8 мкмоль/л. На 22-й неделе была увеличена доза колхицина до 2,0 мг в сутки, но болевой синдром сохранялся. Госпитализирована в НМИЦ АГиП на сроке 24 недели беременности. Проведена профилактика респираторного дистресс-синдрома дексаметазоном, на фоне чего отметила уменьшение выраженности болей и снижение температуры. Лабораторно: фибриноген – 8,5 г/л, СРБ – 85 мг/л, АЛТ, АСТ в пределах нормы, желчные кислоты – 10 мкмоль/л. С учетом развития фебрильной миалгии решено инициировать терапию метилпреднизолоном 16 мг в сутки, но даже после этого болевой синдром сохранялся, появились признаки асептического перитонита. Доза метилпреднизолона доведена до 20 мг, колхицина – до 3 мг в сутки, без особого эффекта, продолжена терапия УДХК. Уровень СРБ достиг 120 мг/л. Инициирована пульс-терапия метилпреднизолоном в суммарной дозе 1500 мг с небольшим снижением уровня СРБ (до 90 мг/л) и незначимым уменьшением болевого синдрома. Все это время пациентка находилась в стационаре, получала парацетамол внутривенно в дозе до 4 г в сутки. Ей было сложно даже лежать. По достижении срока 32–33 недели коллегиально было принято решение о досрочном родоразрешении. Родились недоношенные дети 1930 г/42 см и 1910 г/42 см. После родоразрешения болевой синдром быстро самостоятельно уменьшился, постепенно отменен метилпреднизолон, доза колхицина снижена до 1,5 мг. У детей признаки ПБ до настоящего момента не выявлены.
Обсуждение
Наше наблюдение уникально и показательно одновременно. Достигнутая ремиссия системного воспалительного заболевания до беременности не исключает вероятность рецидива. Течение заболевания у пациенток с ПБ во время беременности отличается большой вариабельностью. Возможно как полное отсутствие приступов, так и более высокая их частота [6]. По данным исследования Bodur H. et al. у 61,4% не было обострений ПБ при беременности, а в тех случаях, когда они возникали, то быстро поддавались терапии [7].
Таким образом, случай обострения ПБ при беременности представляет большой интерес. В мировой литературе имеется описание серьезного обострения ПБ при беременности, ставшего диагностической дилеммой, т.к. обострение развилось после амниоцентеза и сначала было принято за хориоамнионит. Авторы, длительно исключавшие иные причины перитонита, подчеркивают, что для большинства обострений необходимы триггеры в виде инфекций, хирургических манипуляций и прочих интервенций [8, 9]. По-видимому, в нашем случае таким триггером стала совокупность факторов: применение вспомогательных репродуктивных технологий, сама многоплодная беременность и внутрипеченочный холестаз, дебютировавший в 16 недель. Возможно, столь раннее развитие холестаза было признаком поражения печени при ПБ: в мировой литературе имеются описания печеночного воспаления различной степени выраженности, плохо поддающиеся терапии колхицином и требующие перехода на блокаторы ИЛ-1 (канакинумаб) [10–12]. Однако во всех этих ситуациях первым проявлением гепатита был именно синдром цитолиза, а не холестаза. Кроме этого, многоплодная беременность в результате ЭКО могла явиться дополнительным фактором внутрипеченочного холестаза. Как любое специфическое гестационное осложнение, холестаз сохраняется до родоразрешения. Видимо, поэтому было столь сложно купировать развившееся обострение до родов.
Роль половых гормонов в воспалительном процессе при ПБ была предметом нескольких исследований, и их результаты могут дать дополнительное объяснение тому, что вне беременности обострения ПБ возникают чаще во второй половине цикла и во время менструаций. Koka et al. показали, что эстрогены могут ингибировать индуцированную ИЛ-1β продукцию ИЛ-6. ИЛ-6 – один из цитокинов, влияющих на острофазовые показатели, такие как фибриноген, СРБ, гаптоглобин и т.д. [13]. Таким образом, ингибирование этого ИЛ может косвенно ослабить воспалительный процесс. Считается, что гормональная терапия эстрогенами значительно снижает экспрессию молекул межклеточной адгезии [14]. Этот эффект напоминает эффект колхицина, который также снижает экспрессию молекул адгезии на эндотелиальных клетках и лейкоцитах, тем самым подавляя их хемотаксис. В другом исследовании было продемонстрировано, что эстрогены могут ингибировать сборку тубулина [15]. Таким образом, возникает соблазн предположить, что эстрогены могут имитировать действие колхицина на сборку тубулина и экспрессию молекул адгезии, тем самым предотвращая приступы ПБ [3, 6, 16–20].
Ген, ответственный за развитие ПБ, был выделен лишь в 1997 г. и в нашем случае не исследован, т.к. диагноз клинически не вызывал сомнений и был установлен ранее [21, 22].
Мы обращаем внимание на то, что признаки перитонита у нашей пациентки появились уже после выраженного суставного синдрома и фебрильной миалгии, что облегчило нам диагностический поиск, поскольку даже у больных с ПБ возможно развитие хирургической патологии, особенно при беременности, а обследование беременных с острым животом – одна из самых сложных задач для клинициста, т.к. задержка диагностики может быть опасна, как для матери, так и для плода. В мировой литературе имеется описание двух обострений ПБ при беременности у одной пациентки: оба протекали «типично», однако во второй раз были обнаружены признаки деструктивного холецистита, что потребовало быстрого хирургического вмешательства [23]. Авторы обращают внимание на длительный анамнез желчекаменной болезни, которая, по-видимому, также являлась предрасполагающим фактором для приступов ПБ, как и холестаз у нашей пациентки.
Заключение
Ведение беременности и родов у женщин с редкими формами наследственных моногенных заболеваний имеет целый ряд сложностей. Количество накопленных случаев невелико, отсутствуют единые рекомендации по курации этих пациентов в период гестации. Поэтому каждый законченный случай должен тщательно анализироваться с целью оптимизации акушерской тактики и методов терапии во время беременности. Представленная клиническая демонстрация свидетельствует о важности междисциплинарного и индивидуального подхода для достижения благоприятного исхода для матери и новорожденного.
Таким образом, ПБ не может быть препятствием и противопоказанием для планирования беременности у женщин репродуктивного возраста при условии персонифицированного ведения каждого случая.