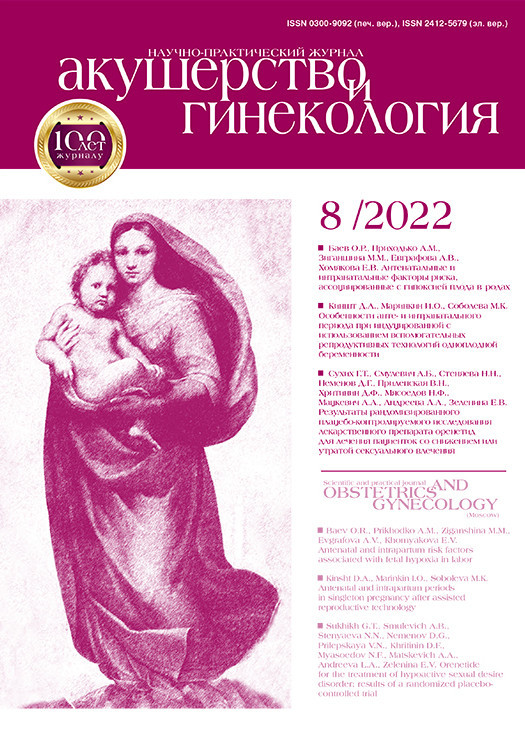С современных позиций эндометриоз рассматривают, как доброкачественное эстрогензависимое заболевание, ассоциированное с развитием хронического воспалительного процесса, характеризующееся обнаружением за пределами полости матки ткани, подобной по структуре и функциям эндометрию [1, 2]. Частота распространенности данной патологии в мире достигает 10% среди женщин репродуктивного возраста, среди пациенток с бесплодием – 50%. При этом сохраняется тенденция к росту новых случаев выявления данного заболевания [3, 4]. Эндометриоз характеризуется широким спектром клинических проявлений, среди которых доминирует дисменорея, хроническая тазовая боль и бесплодие. Нередко наблюдаются ациклические боли, диспареуния, дисхезия и ряд других неспецифичных симптомов [5–7]. Помимо гинекологических симптомов, у многих пациенток с эндометриозом встречаются желудочно-кишечные проявления, среди которых наиболее распространенными являются вздутие живота, тошнота, запор, диарея и рвота [8]. При этом, по данным литературы, локализация и распространенность эндометриоидных поражений часто не связаны с тяжестью клинических проявлений, в ряде случаев наблюдается бессимптомное течение при наличии обширного процесса [9]. Многообразие, неспецифичность симптомов, а также недостаточная информативность неинвазивных методов диагностики заболевания приводят к задержке постановки диагноза в среднем на 7–8 лет [10]. Ранее лапароскопия с гистологическим исследованием образцов ткани, полученных во время операции, рекомендовалась в качестве «золотого стандарта» диагностики эндометриоза [11, 12]. В настоящее время этот вопрос пересматривается, и визуальные методы исследования ставятся первоочередными в алгоритме диагностики заболевания [13–16]. Согласно Европейским клиническим рекомендациям по эндометриозу 2022 г., лапароскопию следует проводить в случае не информативности визуальных методов диагностики или в тех случаях, когда эмпирическое лечение оказалось неэффективным или его назначение не целесообразно [16]. Следует также принимать во внимание данные зарубежных и отечественных исследований, свидетельствующие о возрастании риска развития тяжелых форм эндометриоза после повторных оперативных вмешательств [17–19]. Отсутствие послеоперационной гормонотерапии увеличивает вероятность рецидива заболевания почти в 5 раз и может в будущем приводить к возникновению более интенсивного болевого синдрома и распространенного патологического процесса [20]. Все это говорит о необходимости совершенствования алгоритмов диагностики заболевания, в том числе – с учетом патогенетических механизмов формирования эндометриоза.
Следует отметить, что этиология и патогенез эндометриоза до сих пор остаются предметом научных дискуссий, несмотря на существование более 10 теорий его возникновения. Наиболее признанной гипотезой является теория Sampson J.A. о ретроградной менструации, переносе фрагментов эндометрия через фаллопиевы трубы в брюшную полость с последующей их имплантацией вне полости матки [21]. Достаточно убедительным доказательством данной гипотезы является факт характерного анатомического распределения эндометриоидных очагов. Поражения, как правило, асимметричны, что можно объяснить влиянием силы тяжести, анатомией брюшной полости и перитонеальным течением менструальной крови (МК) по часовой стрелке [21–23]. Однако, имплантационная теория Sampson J.A. не объясняет в полной мере всех случаев возникновения заболевания. Например, экстрагенитальные локализации эндометриоза (в головном мозге, печени, легких и др.) или клинические случаи гистологически-подтвержденного эндометриоза у мужчин [24, 25]. Известно также, что ретроградная менструация наблюдается у 80% женщин репродуктивного возраста, а распространенность эндометриоза составляет лишь около 10% [26]. В связи с этим были предложены и другие пути возникновения заболевания. В последнее время широко обсуждается роль генетических или эпигенетических нарушений, приводящих к изменениям в клетках эндометрия, в стволовых клетках или клетках костного мозга. Влиянием генетических и эпигенетических факторов пытаются объяснить наличие эндометриоз-ассоциированного бесплодия и ряд иммунологических изменений [27]. Предполагается, что рост поражений является клональным и вариабельным, но самоограничивающимся, вероятно, из-за фиброза, который нередко наблюдается вокруг очагов эндометриоза. Полагают, что его инициация возникает тогда, когда количество наследственных и приобретенных изменений превышает некое пороговое значение. Существует даже точка зрения, что эндометриоз можно рассматривать не как одно прогрессирующее и рецидивирующее заболевание, а как множество заболеваний с разным клиническим проявлением: перитонеальный, кистозный (эндометриомы) или глубокий эндометриоз [27, 28]. Окислительный стресс и микроокружение верхних половых путей и брюшной полости, предположительно, могут способствовать прогрессированию эндометриоза [29]. Не исключена также роль резистентности тканей к прогестерону в генезе заболевания [30]. Предлагаются и другие гипотезы: дизонтогенетическая теория, или теория мюллериоза, миграции стволовых клеток в эктопические участки, теория лимфатической диссеминации и ряд других [31–33].
Одной из обсуждаемых сегодня теорий возникновения эндометриоза является гипотеза бактериального заражения, которая впервые была предложена группой исследователей из Японии в 2010 г. [34]. Одним из оснований для выдвижения данной концепции послужило более раннее исследование Bailey M.T. и Coe C.L., проведенное на макаках-резус, где были обнаружены различия в составе микробиоты обезьян с эндометриозом по сравнению со здоровыми контрольными животными. Отмечалось значительное снижение количества бактерий рода Lactobacillus [F (1,14)=6,09, P<0,05] и статистически значимое увеличение грамотрицательных аэробов и факультативных анаэробов [F (1,14)=8,69, P<0,01]. Хотя конкретный механизм влияния кишечной микробиоты на эндометриоидные поражения обнаружен не был, авторами было высказано предположение, что секреция медиаторов воспаления может способствовать изменению бактериального состава в кишечнике [35]. На основании этих данных Khan K.N. et al. выдвинули гипотезу, что ряд грамотрицательных бактерий, в частности – Escherichia coli, путем прямой восходящей миграции из влагалища, способны контаминировать МК и «инфицировать» стенку матки. Аргументом послужило их исследование, где было выявлено значительное увеличение количества колониеобразующих единиц Escherichia coli в менструальной крови, а также повышение уровня бактериального эндотоксина, липополисахарида (ЛПС), в МК и перитонеальной жидкости (ПЖ) у пациенток основной группы по сравнению с контрольной группой (МК 285,5±64,5 пг/мл против 114,9±17,0 пг/мл [P<0,01]; ПЖ 71,5±9,2 пг/мл против 43,3±9,8 пг/мл [P<0,001]. Во-первых, бактериальный эндотоксин, посредством Toll-подобных рецепторов 4 типа (TLR-4), стимулировал выработку провоспалительных цитокинов и факторов роста. Концентрации HGF (Hepatocyte Growth Factor), VEGF (Vascular endothelial growth factor), IL-6 (Interleukin-6) и TNF-α (tumor necrosis factor alpha) были значительно выше в культуральной среде Escherichia coli, обработанных ЛПС (P<0,05). Во-вторых, ЛПС может увеличивать пролиферацию эпителиальных и стромальных клеток эутопического и эктопического эндометрия у женщин с эндометриозом. Об этом свидетельствовало усиление роста клеток эндометрия в ответ на ЛПС и устранение ЛПС-опосредованных эффектов антителами против TLR-4 (P<0,05). Предполагается, что TLR-4 в будущем могут рассматриваться как терапевтическая мишень заболевания [34]. Однако, авторы не исключают, что источником ЛПС может служить не только восходящая миграция Escherichia coli из влагалища, но и транслокация кишечной палочки или бактериального эндотоксина из кишечника через энтероциты [36, 37]. Достоверная взаимосвязь эндометриоза с рядом заболеваний, имеющих воспалительную природу, которая описана в многочисленных научных работах, может служить одним из возможных доказательств данной теории.
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) представляет собой сложную экосистему взаимодействия пищевых молекул, клеток слизистой оболочки кишечника, клеток иммунной системы и микроорганизмов [38]. Немаловажным является тот факт, что микробиота ЖКТ – это динамичная среда, которая обладает метаболическим потенциалом, а кишечный микробиом, имея в 150 раз больше генов, чем содержится в геноме человека, кодирует огромное количество ферментов, которые опосредуют различные метаболические пути, включая биосинтез основных витаминов, расщепление сложных неперевариваемых полисахаридов, конъюгацию эстрогенов [39–42]. Доказательства роли кишечных бактерий в метаболизме эстрогенов получены несколько десятилетий назад. В своем исследовании коллектив ученых из Швеции еще в 1969 г. продемонстрировал, что стерильные крысы практически не выделяют свободные формы стероидных гормонов с фекалиями, в отличие от обычных крыс с заселенным микроорганизмами кишечником [43]. В последние десятилетия увеличивается количество научных публикаций о том, что в микробиоме кишечника существует эстроболом – совокупность генов кишечных бактерий, обладающих способностью опосредованно метаболизировать эстрогены в кишечнике [44]. Анализ микробных геномов показал, что бактерии рода Bacteroides, Bifidobacterium, Escherichia, Lactobacillus и некоторые другие микроорганизмы способны секретировать β-глюкуронидазу. Этот фермент деконъюгирует эстрогены в просвете кишечника, превращая их в активные формы. Увеличение реабсорбции несвязанных «активных» эстрогенов через стенку кишечника приводит к более высоким уровням их в сыворотке крови и, как следствие, к избыточному воздействию на α (альфа) и β (бета) эстрогеновые рецепторы (ERα и ERβ) тканей-мишеней [45]. Таким образом, дисбиотический микробиом кишечника, способствующий деконъюгации эстрогенов, может создавать эндогенную гиперэстрогению, способную индуцировать развитие или прогрессирование эстроген-зависимых заболеваний, к числу которых относится эндометриоз [46]. Роль эстроболома и бактерий, секретирующих β-глюкуронидазу, при эндометриозе в настоящее время является предметом научных дискуссий. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение активности β-глюкуронидазы у женщин с эндометриозом, чтобы подтвердить роль эстроболома в патогенезе заболевания.
К настоящему времени опубликован ряд научных исследований, выполненных на моделях животных и на людях, в которых тестировалась гипотеза взаимосвязи между эндометриозом и изменением состава микробиоты. Актуальным остается вопрос изучения двунаправленного эффекта между микробиомом и эндометриозом. С одной стороны, при эндометриозе развивается хроническая воспалительная реакция, активация иммунных клеток, что может приводить к изменению микробного состава. С другой стороны, не исключено влияние микробиоты на развитие и прогрессирование эндометриоза [47]. В проспективном исследовании на мышах Yuan M. et al. воспроизводили модель эндометриоза человека путем внутрибрюшинной инъекции животным тканей эндометрия. На 42-й день наблюдения были обнаружены различия в составе микробиоты кишечника у мышей с эндометриозом, по сравнению с группой контроля. Несмотря на полученное сходство α-разнообразия состава кишечной микробиоты обеих групп, были обнаружены различия на уровне вида (β-разнообразие). У мышей с эндометриозом наблюдались признаки дисбиоза кишечника в виде двухкратного повышения соотношения бактерий типа Firmicutes к Bacteroidetes в сравнение с группой контроля, а также увеличение количества бактерий рода Bifidobacterium (тип Actinobacteria) в основной группе, роль которых в патогенезе эндометриоза на сегодняшний день не ясна [48]. Женщины с эндометриозом и желудочно-кишечными симптомами имели более низкое содержание бактерий в классе Clostridia (тип Firmicutes), более низкое содержание бактерий рода Odoribacter (тип Bacteroidetes) и более высокое – Prevotella (тип Bacteroidetes), по сравнению с пациентками без желудочно-кишечных симптомов. Обнаружена взаимосвязь между увеличением числа бактерий рода Prevotella и такими симптомами, как запор (p=0,014), вздутие живота и метеоризм (p=0,016), тошнота и рвота (p=0,017) [49]. Бактерии семейства Prevotellaceae (род Prevotella, род Alloprevotella) были неоднократно определены как превалирующий таксон у женщин с эндометриозом [47, 49, 50]. Полученные данные могут служить основанием для продолжения исследований, направленных на поиск связи между составом микробиоты кишечника и эндометриозом.
На сегодняшний день достоверным является тот факт, что верхние отделы женского репродуктивного тракта, как и кишечник, не являются стерильными [51, 52]. Перед исследователями встает вопрос, позволяет ли оценка видового состава микроорганизмов цервикальной слизи или кишечного содержимого судить о микробиоте полости матки или брюшной полости [53]? Для ответа на этот вопрос проводилась сравнительная оценка состава микробиоты кишечника, цервикального канала и ПЖ методом секвенирования гена 16 S рибосомной рибонуклеиновой кислоты (16S рРНК) у пациенток с гистологически подтвержденным эндометриозом по сравнению с группой контроля. Результаты исследования показали, что качественный и количественный состав микробиоты кишечника и ПЖ пациенток с эндометриозом значительно отличались от таковых в группе контроля, в то время как в микробиоте цервикального канала различий не было выявлено. Наблюдалось снижение α- и β-разнообразия кишечной микробиоты у пациенток основной группы по сравнению с контрольной [49]. Эти данные согласуются с работами других авторов. В шведском исследовании α-разнообразие образцов кала было значительно выше в группе контроля по сравнению с основной группой женщин с эндометриозом (p=4,9e-05). Различия в численности 12 родов, принадлежащих к классам Bacilli, Bacteroidia, Clostridia, Coriobacteriia и Gammaproteobacteria, обнаружены между пациентками обеих групп [49]. Китайские исследователи также установили снижение α-разнообразия кишечной микробиоты и более высокое соотношение бактерий типов Firmicutes к Bacteroidetes у пациенток с эндометриозом, что согласуется с описанными ранее данными, изложенными в исследовании на мышиной модели [48, 50]. Что касается ПЖ, не было выявлено межгрупповых различий по видовому разнообразию [54]. Авторы предположили, что одним из возможных объяснений этому может быть то, что мезотелиальные клетки брюшины непрерывно продуцируют ПЖ с последующей ее реабсорбцией. Это способствует очищению ее от патогенов, попадающих в брюшную полость восходящим путем из нижних отделов женского репродуктивного тракта, что приводит к формированию достаточно стабильной микросреды [55, 56]. Наряду с этим, имеются данные исследований о наличии различий в составе ПЖ [57]. Как уже указывалось в исследовании Huang L. et al., различий в составе образцов цервикальной слизи между двумя группами пациенток обнаружено не было [54]. Однако, в работе Chang C.Y. et al. было установлено, что у пациенток с эндометриозом, имеющих более выраженную клиническую симптоматику, отмечалось достоверное снижение α- и β-разнообразия микробиоты шейки матки. Увеличение количества бактерий типа Firmicutes и снижение Actinobacteria и Bacteroidetes в цервикальной слизи пациенток основной группы позволяло дифференцировать их от группы контроля [58]. Более ранняя работа с аналогичным дизайном исследования показала увеличение количества бактерий семейства Enterobacteriaceae и рода Streptococcus в отделяемом цервикального канала пациенток с эндометриозом по сравнению с контролем (P<0,05 для каждого) [59]. Ata B. et al. обнаружили полное отсутствие бактерий рода Atopobium и Sneathia и значительное повышение количества Alloprevotella (p<0,01) в эндоцервикальных образцах пациенток с эндометриозом [47]. Это может являться маркером доброкачественного процесса [47], поскольку ранее наличие бактерий вида Atopobium vaginae и Porphyromonas spp. в сочетании с высоким pH влагалища рассматривали, как предикторы развития рака эндометрия [60].
На основании степени выраженности межвидового разнообразия микробиомного состава можно предположить о наличии или отсутствии патологии. Наряду с межвидовым разнообразием микробиоты, продолжается поиск маркерных микроорганизмов при доброкачественных процессах. Исследователи пытаются найти ответ на вопрос, может ли присутствие одного или отсутствие другого вида микроорганизмов быть значимым этиологическим фактором возникновения патологии и потенциальной терапевтической мишенью заболевания [47]. Huang L. et al. в своем исследовании выявили ассоциацию эндометриоза с более низким количеством бактерий семейства Lachnospiraceae рода Ruminococcus в кишечнике [54]. Ранее было обнаружено, что Ruminococcus obeum (семейство Lachnospiraceae) способствуют увеличению концентрации в толстом кишечнике пропионата, вида короткоцепочечных жирных кислот, обладающих защитным эффектом на стенку кишечника, а Ruminococcus faecis участвует в биосинтезе бутирата, другой короткоцепочечной жирной кислоты, которая снижает проницаемость кишечной стенки и оказывает противовоспалительный эффект [61]. На основании этого авторами было сделано предположение, что снижение количества бактерий семейства Lachnospiraceae (род Ruminococcus) при эндометриозе приводит к уменьшению концентрации защитных метаболитов в кишечнике, что может способствовать развитию заболевания [54]. В ПЖ у пациенток с эндометриозом было выявлено повышение количества бактерий семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas) [54]. Известно, что бактерии Pseudomonas aeruginosa способны опосредованно повышать активность арилсульфатазы – фермента, участвующего в стероидогенезе. В частности, происходит превращение метаболита эстрона сульфата в более активную форму – эстрон [62]. Кроме того, бактерии рода Pseudomonas являются грамотрицательными микроорганизмами, способными высвобождать ЛПС [34]. Все это может приводить к возникновению локальной гиперэстрогении в брюшной полости, повышенной пролиферации клеток эктопического эндометрия и прогрессированию эндометриоза [34, 63]. Таким образом, снижение количества бактерий рода Ruminococcus в кишечнике и повышение Pseudomonas в ПЖ могут быть потенциальными биомаркерами эндометриоза [54]. Несмотря на очевидную целесообразность изучения состава ПЖ при эндометриозе [54, 57], многие исследователи сходятся во мнении, что диагностическая значимость образцов кала схожа или превосходит таковую ПЖ [54]. Учитывая сопоставимость информативности микробного состава ПЖ и кишечного содержимого по данным литературы, можно сделать заключение в пользу оценки кишечной микробиоты, как не сложного и доступного метода для клинической практики.
Немаловажным и перспективным является также поиск «маркерных» микроорганизмов, на основании определения которых можно было бы предположить о форме эндометриоза и степени его распространения. Исследования в этом направлении малочисленны. Есть данные о более высокой численности Lachnobacterium, принадлежащих к классу Clostridia, и Adlercreutzia, принадлежащих к классу Coriobacteriia, у женщин с изолированными эндометриомами яичников, по сравнению с пациентками, с сочетанием нескольких форм эндометриоза [49]. Результаты другого исследования показали, что в образцах ПЖ наблюдалось достоверное увеличение количества бактерий рода Acinetobacter, Pseudomonas, Streptococcus и Enhydrobacter и снижение количества Propionibacterium, Actinomyces и Rothia в группе эндометриоза по сравнению с контролем (p<0,05) [64]. Интересные данные, в дальнейшем послужившие основой для обсуждения в ряде других работ, получены в исследовании Ata B. et al. в 2019 г. Несмотря на ограниченную выборку пациенток, у нескольких женщин с эндометриозом обнаружено повышение соотношения Escherichia/Shigella в образцах кала, в то время как, ни у одной пациентки из группы контроля подобного не наблюдалось. В дальнейшем, у этой категории пациенток был выявлен колоректальный эндометриоз, требующий сегментарной резекции толстой кишки [47]. Особенности микробиомного состава пациенток с глубоким эндометриозом проявлялись увеличением количества бактерий типа Tenericutes, Spirochaetae и ряда других микроорганизмов [58]. В рамках обсервационного перекрестного пилотного исследования по изучению состава кишечной и влагалищной микробиоты при различных стадиях эндометриоза было обнаружено увеличение относительной численности в МК бактерий рода Anaerococcus (тип Firmicutes), у пациенток с эндометриозом 3–4 стадии по классификации rASRM (revised American Society for Reproductive Medicine) по сравнению с пациентками с 1–2 стадией заболевания [65]. Некоторые различия количественного и качественного состава микробиоты при разных стадиях заболевания были выявлены и в другом исследовании [58]. И хотя предварительные данные указывают на различия микроорганизмов при разных стадиях заболевания, необходимо продолжать исследования в этой области, возможно, с использованием большей выборки пациенток.
Заключение
Анализ данных литературы позволяет сделать заключение, что высокая частота эндометриоза, неспецифичность его симптомов, отсутствие информативных неинвазивных методов диагностики ранних стадий заболевания, а также недостаточная эффективность хирургических и медикаментозных методов лечения, указывает на важность проблемы и необходимость проведения научных исследований, направленных на ее решение. Большинство имеющихся на сегодняшний день данных указывает, что состав микробиоты у пациенток с эндометриозом отличается от здоровых женщин. Однако, не следует исключать, что эти различия могут быть связаны с регионом проживания, этнической принадлежностью, пищевыми привычками, характеристиками макроокружения и рядом других внешних факторов. Перспективным является изучение микробиома различных областей, обнаружение «маркерных» микроорганизмов различных форм и стадий заболевания, что особенно актуально для пациенток с перитонеальной формой эндометриоза, которая наиболее сложно диагностируется визуальными методами исследования. Таким образом, изучение состава микробиоты представляется достаточно новым и весьма перспективным направлением, как с научных, так и с точки зрения практических позиций.