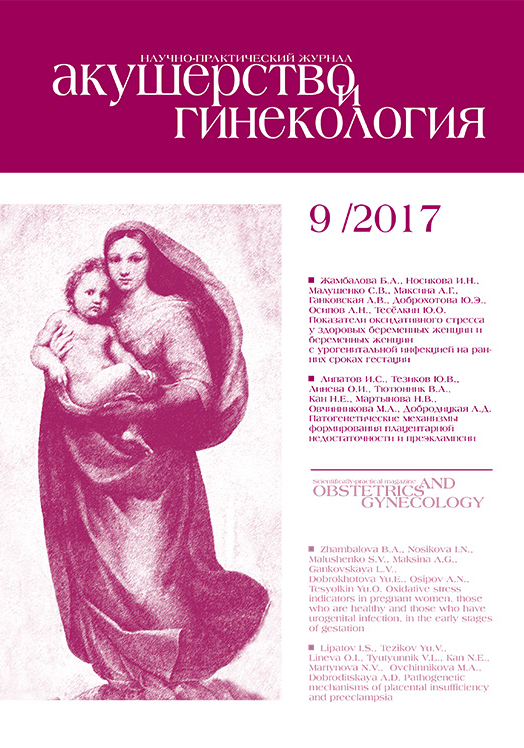Классические представления о роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии онкозаболеваний репродуктивных органов
Папилломавирусная инфекция (ПВИ) признана в настоящее время одной из самых распространенных инфекций, поражающих шейку матки, влагалище и вульву. Более 75% сексуально активных женщин хотя бы раз в жизни инфицируются ВПЧ [1].
До последнего времени преимущественно обсуждалась ключевая роль ПВИ в развитии рака шейки матки, а также ее вклад в развитие других онкологических заболеваний аногенитальной области (ануса, вульвы, влагалища, полового члена) [2, 3]. Степень заболеваемости раком шейки матки коррелирует с уровнем экономического развития страны и колеблется от 9,9 на 100 тыс. женщин в развитых странах до 15,7 на 100 тыс. женщин в развивающихся странах [3].
Обращает на себя внимание, что в последние годы в России обнаружилась тенденция к росту заболеваемости раком шейки матки у пациенток репродуктивного возраста: за 15 лет у женщин этого возраста заболеваемость раком шейки матки увеличилась более чем в 2 раза. В возрасте 15–40 лет рак шейки матки занимает второе место (после рака молочной железы) среди причин смерти больных злокачественными опухолями (15%) [4, 5].
Так, по онкогенной опасности для человека условно выделяют 3 группы типов ВПЧ:
- Неонкогенные ВПЧ – никогда не вызывают малигнизацию вызванного ими процесса;
- Онкогенные ВПЧ низкого риска – при определенных условиях, достаточно редко, могут вызывать малигнизацию вызванного ими процесса;
- Онкогенные ВПЧ высокого риска – являются доказанным этиологическим фактором рака шейки матки. К данным генотипам относятся 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68-й типы [1, 6].
Всего же группа ВПЧ обширна и включает более 200 различных генотипов.
Течение ПВИ зависит от состояния иммунной системы и может быть транзиторным, латентным или персистирующим. В 70–80% наблюдений течение ПВИ является транзиторным, и в этом случае может наблюдаться спонтанная элиминация ВПЧ. Латентное течение характеризуется отсутствием клинических и морфологических изменений при обнаружении ДНК ВПЧ.
Согласно международным данным, табакокурение, большое количество родов, длительное использование гормональной контрацепции и сопутствующая ВИЧ-инфекция относятся к установленным кофакторам развития рака шейки матки у ВПЧ-инфицированных женщин, тогда как инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, герпетическая инфекция), иммуносупрессия, нутритивный дефицит рассматриваются лишь как вероятные кофакторы. Не ясна и обсуждается на сегодняшний день роль генетических факторов со стороны пациента и влияния типа вируса и вирусной нагрузки [3], что обусловливает необходимость дальнейшего изучения.
ПВИ и бесплодие
В то время как вопросы ассоциации ВПЧ с раком шейки матки давно изучены, крайне мало данных (и они противоречивы) о возможном влиянии ВПЧ инфекции на женскую и мужскую фертильность, тем более, что существующие исследования в данной области представляют немалый интерес и, возможно, открывают новые, пока недостаточно изученные, аспекты этой вирусной инфекции.
Так, ранее рядом авторов было показано, что у женщин с бесплодием частота носительства ВПЧ высокого онкогенного риска, а также аномальных цитологических результатов выше, чем в общей популяции.
В частности, по результатам исследования L.D. Zhang с соавт. (2007) установлено, что уровень инфицированности ВПЧ у бесплодных пациенток составил 25,38%, тогда как в контрольной группе – 11,33% [7]. Другие исследователи приводят данные о распространенности аномальных цитологических результатов в группе бесплодных пациенток, которые составляют от 6,1 до 11,3%, тогда как в группе сравнения – 3–3,9% [8–11]. На момент проведения данных исследований (2006–2013 гг.) авторы не расценили ВПЧ как самостоятельный фактор развития бесплодия. Было выдвинуто предположение, что повышенная распространенность ВПЧ среди бесплодных женщин может быть обусловлена частым сочетанием ПВИ с другими инфекциями, передающимися половым путем, в том числе с хламидиозом, который уже в тот период являлся признанным фактором развития трубного бесплодия [8].
Однако при анализе результатов своей работы сами исследователи приходят к выводу, что данная гипотеза несостоятельна, так как большинство ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки (от легкого дискариоза до развития carcinoma in situ) было выявлено в группе пациенток с бесплодием неясного генеза и мужским фактором, а не у пациенток с трубным фактором [8]. Таким образом, повышенная частота инфицирования ВПЧ бесплодных женщин не может быть объяснена простым совпадением.
Эти данные положили начало исследованиям роли самой ПВИ в генезе бесплодия, как женского, так и мужского.
В частности, ряд исследователей считает, что наличием ПВИ можно объяснить некоторые случаи так называемого «бесплодия неясного генеза», которое занимает до 30–40% в структуре бесплодного брака [12].
В работах 2014–2016 годов стали встречаться данные о том, что ВПЧ существенно снижает подвижность сперматозоидов, уменьшает амплитуду бокового смещения головки сперматозоида, уменьшает как общее количество гамет, так и процент морфологически нормальных клеток, а также увеличивает уровень антиспермальных антител в сперме [13–17]. При этом обработка спермы, проводимая перед применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), не элиминирует ВПЧ [18].
Однако на сегодняшний день точных сведений о значении присутствия ВПЧ в снижении фертильности спермы мало. В частности, только недавно стал обсуждаться вопрос о конкретной локализации и механизме существования ВПЧ в сперме и роли инфицированных ВПЧ сперматозоидов как вектора передачи вируса.
Объясняя возможную технологию проникновения ДНК ВПЧ в ооцит с помощью сперматозоида, следует обратить внимание на публикацию C. Foresta с соавт. (2011) [14] о результатах экспериментального исследования с применением технологии FISH (fluorence in situ hybridization). Авторами было показано, что механизм внедрения вируса в сперматозоид связан с взаимодействием капсидного белка L1 ВПЧ с рецептором синдекан-1, который преимущественно локализуется в районе экватора головки сперматозоида. Также было продемонстрировано, что сперма, модифицированная внедрением генов ВПЧ Е6/Е7 и сперма, подвергнутая воздействию капсидного белка L1 ВПЧ, способна проникать в ооцит, хотя процесс оплодотворения может быть нарушен. Так или иначе, сперматозоид в данном эксперименте выполнил функцию вектора для переноса ВПЧ в ооцит, так как и капсидный белок L1, и Е6/Е7 – трансформирующие гены – были доставлены в ооцит.
Тем не менее, другими авторами способность ВПЧ-инфицированной спермы к контаминации, а также к последующему оплодотворению, подвергается сомнению [19]. Многие авторы критикуют подобные экспериментальные работы, так как в них исследуется искусственно созданная ситуация, невозможная к повторению in vivo.
Экспериментально in vitro было показано, что сперматозоид не только проносит ДНК ВПЧ в ооцит при оплодотворении, но и в последующем вирусный геном может определяться в бластоцистах [20]. Дальнейшее инфицирование трофобласта при наличии ВПЧ в эмбрионе было продемонстрировано в исследовании J.A. Tolen с соавт. (2015) [21]. В работе было доказано, что размер ядра клеток трофобласта, инфицированного ВПЧ, был на 29% меньше, чем в контрольной группе. Наличие ВПЧ 18-го типа уменьшило жизнеспособность клеток трофобласта почти вдвое через 48 ч культивирования (13,3 по сравнению с 23,6% в группе контроля) и снизило жизнеспособность клеток внутренней клеточной массы бластоцисты на 60% по сравнению с контролем (17,5 против 45,5% в группе контроля).
Таким образом, несколькими авторами была подтверждена способность ВПЧ индуцировать фрагментацию ДНК и последующую гибель трофобласта. В исследованиях была показана более высокая частота апоптоза в инфицированных клетках трофобласта (в 3,8 раза на 3-и сутки развития и в 5,8 раза – на 12-е сутки развития) и его сниженная способность к инвазии, что нарушает плацентацию и может приводить к ранней потере беременности [17, 19, 22].
Рядом авторов показано, что клетки трофобласта, как и клетки плоского эпителия, высоко восприимчивы к ВПЧ. Активная экспрессия вирусного генома была выявлена в клетках трофобласта, культивируемого в присутствии ВПЧ 16, 18, 11, 31-го типа [21, 23].
Хотя многие исследования еще продолжаются, а завершенные имеют ряд ограничений (так, нет оценки данных in vivo), становится ясно, что ВПЧ имеет негативный эффект на прогрессирование беременности в ранних сроках и, возможно, вносит вклад в генез идиопатического бесплодия.
В свете вышесказанного некоторые исследователи предлагают сместить акценты с проблемы ВПЧ как исключительно «женской» и начать рассматривать участие этой инфекции в нарушениях репродуктивного здоровья супружеской пары [12, 17, 19, 22].
В качестве клинической иллюстрации проведенных in vitro исследований служит работа итальянских авторов, опубликованная в 2016 году, в которой анализировались результаты применения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у пациентов 25–35 лет с идиопатическим бесплодием с разделением их на группы по наличию ВПЧ у одного или обоих партнеров. В результате данной работы стало очевидно, что ключевую роль в успехе ВРТ играет наличие ВПЧ инфекции именно у мужчины или у обоих партнеров. Так, хотя частота оплодотворения существенно не отличалась в обеих группах, кумулятивная частота наступления беременности составила у неинфицированных 38,4%, у инфицированных – 14,2%, а частота невынашивания беременности у неинфицированных ВПЧ была 16,7%, тогда как у инфицированных – 62,5% [24].
Данное исследование делает очевидной необходимость учитывать наличие ПВИ в парах с бесплодием, хотя при этом ни один автор не предлагает путей решения проблемы ВПЧ-инфицирования мужчин. Рассматриваются лишь варианты выжидательной тактики для самоэлиминации вируса, а также разрабатываются способы обработки спермы, уменьшающие вирусную нагрузку в ней [25]. Перспективной считается вакцинация мальчиков-подростков для предупреждения их инфицирования ВПЧ [12, 17, 19, 26, 27]. Ожидается, что вакцинация мальчиков ограничит распространение ВПЧ, увеличит популяционный иммунитет и внесет вклад в профилактику ВПЧ-ассоциированных заболеваний, как мужчин, так и женщин. С 2011 года Американский комитет по вакцинации (ACIP) рекомендует вакцинацию, как девочек, так и мальчиков до 18 лет. В Австралии вакцинация мальчиков включена в календарь прививок с 2013 года. И хотя ни Европейское медицинское агенство (ЕМА), ни Европейский центр по контролю заболеваемости (ECDC) в настоящее время официально не рекомендуют вакцинацию от ВПЧ мальчиков и мужчин, эксперты некоторых стран Европы (Италия, Австрия) уже выработали консенсус по вакцинации мальчиков [27]. Эти нововведения позволяют надеяться не только на уменьшение заболеваемости раком шейки матки и другими ВПЧ-ассоциированными заболеваниями женщин, но и в перспективе – на уменьшение количества бесплодных пар.
Таким образом, в арсенале практического врача в настоящее время остается только широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий по профилактике и лечению ВПЧ-ассоциированной патологии у женщин.
Все более очевидным становится, что работа по профилактике заражения ВПЧ и лечению ВПЧ-ассоциированной патологии не только способствует снижению частоты онкологических заболеваний аногенитальной области, но также имеет значение и для сохранения фертильности пары.
Эффективность программ ЭКО у пациенток, инфицированных ВПЧ
С учетом данных о роли ВПЧ в генезе идиопатического бесплодия, о его негативном влиянии на развитие бластоцисты и способность трофобласта к инвазии, закономерен вопрос об эффективности программ ВРТ у ВПЧ-инфицированных пациенток.
В недавно проведенном ретроспективном анализе 1529 циклов внутриматочной инсеминации [28] авторы сообщили об 11% частоте встречаемости ВПЧ (на цикл). Эффективность программы внутриматочной инсеминации у ВПЧ-инфицированных пациенток была в 6 раз меньше, чем у неинфицированных (1,87 и 11,4% соответственно).
Проводился ряд исследований и с целью оценить вероятное влияние ПВИ на исходы программ ЭКО.
В одной из самых ранних работ по этой теме, опубликованной в 2006 году, авторы обнаружили ВПЧ у 16% пациентов, находящихся в программах ЭКО. Не было найдено достоверной разницы ни в числе полученных ооцитов, ни в количестве эмбрионов на перенос, ни в качестве эмбрионов; тем не менее, у женщин с ВПЧ частота наступления беременности составила 23,5%, тогда как у неинфицированных – 57%. При этом в данном исследовании не учитывалось наличие ВПЧ у мужчины в паре [29], в связи с чем данные результаты следует признать не совсем корректными.
В другом исследовании 199 бесплодных пар частота наступления беременности в зависимости от ВПЧ-статуса отличалась незначительно: при ВПЧ у женщин она составила 42,9% (при отсутствии ВПЧ – 31,1%), при ВПЧ у мужчин 31,6% (при отсутствии ВПЧ – 33,3%). Однако существенно отличалась частота невынашивания беременности в ранних сроках. Так, в тех парах, где был инфицирован мужчина, частота спонтанного аборта составила 66,7%, тогда как при отсутствии инфекции у него – 15%. Особого внимания в данном исследовании заслуживает то, что все наступившие беременности у пар, где ВПЧ обнаруживался у обоих партнеров, закончились самопроизвольным выкидышем. А при отсутствии ВПЧ у обоих партнеров частота невынашивания составила 15,9% [30]. Это подтверждает гипотезу о том, что ВПЧ в первую очередь влияет на процесс имплантации, и ключевую роль в его нарушении имеет низкое качество трофобласта вследствие инфицирования ооцита сперматозоидом при оплодотворении.
Последующие работы продемонстрировали противоречивые данные: по крайней мере, 3 исследования не обнаружили влияния ВПЧ на частоту наступления беременности и спонтанных абортов после проведения ЭКО [31–34]. Более того, по результатам проведенного ретроспективного анализа данные авторы утверждают, что инфицирование ВПЧ не только не влияет на успех ВРТ, но активное лечение ВПЧ-ассоциированной патологии перед проведением ЭКО не рекомендуется, так как время, потраченное на лечение, увеличивает возраст и уменьшает овариальный резерв пациентки, что, в свою очередь, ухудшает результативность ВРТ.
Подготовка к программам ЭКО пациенток с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки
Существуют многочисленные, но противоречивые исследования о влиянии на течение и исход беременности лечения патологии шейки матки, проводимого в период прегравидарной подготовки.
Первые исследования о репродуктивных рисках, связанных с лечением патологии шейки матки, появились около 10 лет назад, и с тех пор было опубликовано более 50 обзорных работ как подтверждающих, так и опровергающих наличие связи между осложнениями беременности и различными методами лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Разные авторы связывают лечение цервикальной патологии с последующим риском преждевременных родов, в том числе ранних и сверхранних, а также с угрозой преждевременных родов, преждевременным разрывом околоплодных оболочек, хорионамнионитом, низким весом новорожденных. Увеличивается и число случаев цервикального церкляжа во время беременности у пациенток, ранее перенесших лечение цервикальной интраэпителиальной неоплазии [35].
Большинство авторов пришло к выводу, что предшествующая беременности лазерная или петлевая конизация не влияет на частоту наступления беременности после ВРТ, но, тем не менее, повышает риск преждевременных родов [36, 37]. Так, по данным A. Pinborg с соавт. (2015), конизация шейки матки, предшествующая ВРТ, удваивает риск преждевременных родов при многоплодных беременностях [36].
В то же время другие исследователи [38] не выявили связи между петлевой электроэксцизией, проведенной по поводу ВПЧ-ассоциированной дисплазии шейки матки 2–3-й степени и частотой преждевременных родов в беременностях двойней, наступивших с применением ВРТ.
Данные о том, что лечение предрака шейки матки, в особенности эксцизионное, может повышать риск преждевременных родов, ведут к необходимости разработки новых алгоритмов прегравидарной подготовки пациенток с дисплазией шейки матки. Так, результаты масштабного мета-анализа с участием 6 338 982 пациентов, опубликованного в 2016 году [35], показали, что любое локальное лечение предрака шейки матки повышает риск преждевременных родов. В то же время целесообразность малых вмешательств остается неясной, так как наличие цервикальной неоплазии как таковое, по мнению некоторых авторов также связано с повышенным риском преждевременных родов.
Частота осложнений беременности прямо зависит от радикальности примененного способа лечения (ножевая конизация, петлевая электроэксцизия, лазерная аблация) и кратности процедуры. Неоднократные конизации увеличивали риск преждевременных родов в 4 раза по сравнению с контрольной группой. Анализ подгрупп ясно продемонстрировал, что риск преждевременных родов напрямую коррелирует с размерами конуса (глубина/объем) и прогрессивно увеличивается с увеличением глубины конуса. Хоть риск был повышен даже для эксцизий глубиной менее 10 мм, он повышался в 2 раза при глубине более 10 мм, в 3 раза при глубине 15–17 мм и почти в 5 раз при эксцизии, превышающей 20 мм в глубину. Заслуживает внимания, что риск преждевременных родов после «малых» эксцизий и аблации повышался незначительно и был сопоставим с таковым при наличии нелеченной цервикальной интраэпителиальной неоплазии [35]. Эти факты делают очевидным вопрос, какая тактика предпочтительна при прегравидарной подготовке пациенток с цервикальной неоплазией 1-й степени: выжидательная или активная? До настоящего времени остается неясным, какой вариант следует выбрать практическому врачу при подготовке пациентки к беременности, в особенности к программе ЭКО, во время которой встречается высокая частота многоплодия, что также повышает риск преждевременных родов.
Тот факт, что риск неблагоприятных гестационных исходов существенно зависит от размера и пропорций удаленной ткани при петлевой электроэксцизии и конизации [35, 39–41], позволяет сделать вывод о важности персонифицированного подхода в отношении пациенток, планирующих беременность, особенно с применением ВРТ. То есть оперативные методы лечения патологии шейки матки должны быть максимально эффективными, но не повышающими риск преждевременных родов и невынашивания беременности.
Заключение
Таким образом, литературные данные свидетельствуют о наличии определенной связи между ПВИ и развитием бесплодия; причем, в первую очередь, в качестве повреждающего фактора рассматривается инфицирование ВПЧ спермы с последующим проникновением ДНК ВПЧ в ооцит и инфекцией бластоцисты. Примечательны исследования о высокой восприимчивости к ВПЧ клеток трофобласта, сравнимой с восприимчивостью к ВПЧ многослойного плоского эпителия шейки матки, что позволяет сделать выводы о влиянии ПВИ на процесс имплантации. Эти эффекты ВПЧ имеют значение в развитии нарушений фертильности, как при планировании самостоятельной беременности, так и с применением ВРТ. В то же время работ, посвященных данной теме, недостаточно, и очевидна необходимость проведения более долгосрочных и многоцентровых исследований для подтверждения этих предположений. Очевидна и потребность в разработке алгоритмов работы с данными пациентами как в плане обследования по поводу бесплодия, так и в рамках подготовки к программам ЭКО.