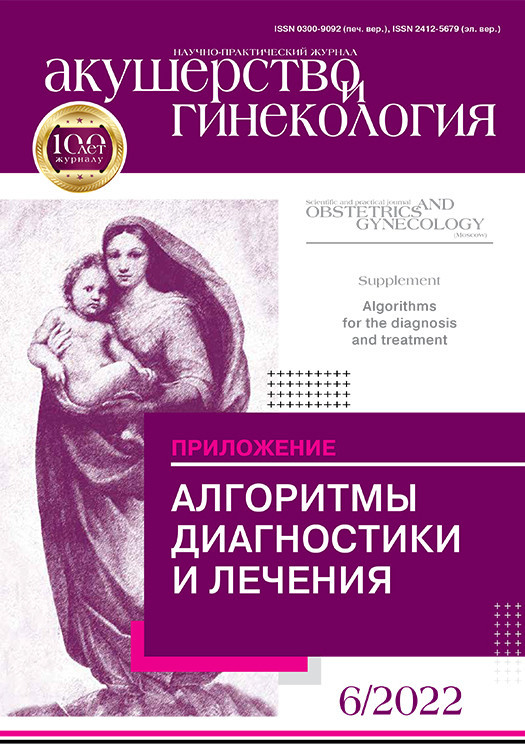Доброкачественная дисплазия молочной железы (ДДМЖ) — это группа заболеваний, которая характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с нарушением соотношений эпителиального и соединительнотканного компонентов [1]. В отечественной и зарубежной литературе для определения данной патологии применяется до 30 синонимов, среди них — мастопатия, фиброзно-кистозная болезнь, дисгормональная гиперплазия молочных желез, фиброаденоматоз фиброаденоматоз и пр. В нашей стране наиболее часто пользуются термином «мастопатия», за рубежом — «фиброзно-кистозная болезнь» (ФКБ).
Коды по МКБ-10
N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы.
N60.0 Солитарная киста молочной железы.
N60.1 Диффузная кистозная мастопатия.
Исключена: с пролиферацией эпителия (N60.3).
N60.2 Фиброаденоз молочной железы.
Исключена: фиброаденома молочной железы (D24).
N60.3 Фибросклероз молочной железы (кистозная мастопатия с пролиферацией эпителия).
N60.4 Эктазия протоков молочной железы.
N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы.
N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная.
N64.4 Мастодиния.
Эпидемиология
ДДМЖ — самая распространенная патология молочных желез. Статистический учет ДДМЖ не ведется, но, по оценкам ряда авторов, ее частота в женской популяции составляет 50% [2, 3].
Этиология и патогенез
Поскольку доброкачественные заболевания и рак молочной железы (РМЖ) имеют много общих этиологических факторов и патогенетических механизмов, факторы риска развития ДДМЖ и РМЖ во многом идентичны. Этиология ФКБ по сравнению с РМЖ менее изучена, но можно с высокой степенью убежденности утверждать, что мастопатия — полиэтиологическое заболевание, и выделить основные факторы риска [4, 5].
1. Внешняя среда и стиль жизни:
- фрустрирующие ситуации, которые присутствуют в повседневной жизни современной женщины, могут быть вызваны неудовлетворительностью семейным положением и сексуальной жизнью, конфликтными ситуациями на работе и в быту. Нарушения в психоэмоциональной сфере приводят к изменению секреторной функции эндокринных желез и обычно сопровождаются повышенной утомляемостью, головной болью, повышенной тревожностью, бессонницей, повышенной мнительностью;
- погрешности в питании, сопровождающиеся хроническим перееданием жиров животного происхождения, продуктов с высоким содержанием холестерина, сахара, недостатком овощей и фруктов, пищевых волокон, витаминов и минералов.
2. Факторы репродуктивного характера:
- раннее менархе и поздняя менопауза;
- низкая частота родов;
- поздний возраст (старше 35 лет) первых родов;
- рождение крупного плода;
- большое количество абортов;
- отсутствие или короткий период грудного вскармливания.
3. Заболевания женской половой сферы:
- дисфункция яичников, сопровождающаяся нарушениями менструального цикла по типу ановуля- ции, неполноценной лютеиновой фазы, олигоменореи;
- воспалительные процессы в малом тазу, в первую очередь воспалительные заболевания придатков матки, которые могут быть причиной значительных структурных и функциональных нарушений гипофизарно-яичниковой оси;
- наличие гиперпластических гинекологических заболеваний (эндометриоз, миома, гиперплазия и полипы эндометрия);
- опухоли яичников.
4. Эндокринные и обменные нарушения:
- патология щитовидной железы, сопровождающаяся гипофункцией;
- врожденная дисфункция коры надпочечников;
- гиперпролактинемия;
- сахарный диабет;
- метаболический синдром;
- патология печени.
5. Генетические факторы:
- мутация генов BRCA1, -2;
- принадлежность женщин к генотипу AIAI по гену GPIIIa;
- сочетание гиперреактивности организма с гомозиготностью по аллелю PL-AI гена GPIIIa.
ДДМЖ является гормонозависимым заболеванием, обусловленным дисбалансом в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Среди всех органов репродуктивной системы, подверженных риску возникновения гормонозависимых гиперпластических процессов, именно молочные железы страдают наиболее часто, первыми сигнализируя о расстройствах нейрогуморального гомеостаза. В основе патогенеза ДДМЖ лежит хроническая гиперэстрогения. Эстрогены вызывают пролиферацию протокового альвеолярного эпителия и стромы, что, в том числе, приводит к обтурации протоков и формированию кист. Прогестерон, напротив, противодействует этим процессам, обеспечивает дифференцировку эпителия и прекращение митотической активности. В патогенезе ДДМЖ имеют значение такие факторы, как овариальная недостаточность (ановуляция, недостаточность лютеиновой фазы цикла, относительное преобладание эстрадиола и недостаток прогестерона), изменение рецепции к половым стероидным гормонам, активность пролиферации и апоптоза эпителия, изменение васкуляризации ткани молочной железы [4]. Кроме того, отмечена связь между развитием ДДМЖ и гиперпролактинемией, что обусловлено способностью пролактина сенсибилизировать ткани молочной железы к эстрогенам и увеличивать в них число рецепторов эстрадиола.
Клиническая картина
Клиническая картина ДДМЖ складывается из масталгии, уплотнений в молочных железах и выделений из сосков.
Масталгия характеризуется субъективными болевыми ощущениями в молочных железах различной интенсивности и встречается у большинства пациенток с ДДМЖ. Выделяют циклическую и нециклическую масталгию. Циклическая масталгия (мастодиния) — функциональное состояние, проявляющееся нагрубанием и болезненностью молочных желез в предменструальном периоде и самостоятельно исчезающее с наступлением менструации.
Участки уплотнений не имеют четких границ и определяются в виде тяжей, мелкой зернистости, огрубения железистых долек.
Выделения из сосков чаще носят билатеральный характер, наблюдаются из нескольких протоков и имеют цвет от молозивного до темно-желтого и зеленого.
Диагностика
Осмотр и пальпацию молочных желез рекомендуется выполнять всем пациенткам с ДДМЖ [4, 6, 7]. Оптимальным сроком для физикального осмотра молочных желез у менструирующих женщин следует считать 5-10-й дни менструального цикла. Неменструирующие женщины могут быть обследованы в любое время. Осмотр лучше всего производить в положении стоя, сначала с опущенными, а затем с поднятыми за голову руками. В результате определяют симметричность расположения и форму молочных желез, уровень стояния сосков и состояние кожного покрова. При пальпации определяются локализация, размеры, границы уплотнений, их поверхность и консистенция, а также взаимоотношение с окружающими тканями и смещаемость по отношению к ним. Методически правильной является пальпация в положении пациентки стоя, а также лежа на спине и на боку. Пальпаторно исследуют как всю молочную железу вокруг соска, так и последовательно по квадрантам и областям до субмаммарной складки.
Диагностическая визуализация у пациенток с ДДМЖ направлена на уточнение патологического процесса и включает такие методы, как маммография, ультразвуковое исследование (УЗИ) и в ряде случаев магнитно-резонансную томографию (МРТ) [7—9].
Рентгеновская маммография является основным методом объективной оценки состояния молочных желез, позволяющим в 92—95% случаев своевременно распознать патологические изменения [7]. Обязательными условиями выполнения маммографии являются двухпроекционное исследование во взаимно перпендикулярных проекциях, компрессия молочной железы, исследование обеих молочных желез. Чувствительность метода составляет 85—87%, специфичность — 91—92%. Информативность маммографии существенно снижается при повышенной маммографической плотности [1].
Мультипараметрическое УЗИ рекомендуется при дифференциальной диагностике между диффузными и очаговыми изменениями паренхимы молочных желез, кистозными и солидными образованиями, неясной и/или противоречивой клинико-рентгенологической картине и повышенной маммографической плотности [7, 9, 10].
Выполнение МРТ не рекомендуется на 1-м этапе диагностики ДДМЖ, но позволяет получить дополнительную информацию в сложных клинико-диагностических ситуациях (молодой возраст, повышенная маммографическая плотность, «подозрительные» выделения из сосков, наличие имплантатов в молочных железах) [11, 12].
Для адекватной трактовки результатов инструментальной диагностики и последующей маршрутизации пациенток рекомендуется применение системы BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) (таблица).
При наличии узловых образований в молочных железах рекомендуется использование методов визуальной диагностики c учетом возрастных особенностей пациентки: у женщин моложе 30 лет методом выбора является УЗИ, пациенток в возрасте 30 лет и старше — маммография или маммография в сочетании с УЗИ [7, 9]. Алгоритм обследования пациенток с узловыми образованиями молочных желез в зависимости от возраста (моложе и старше 30 лет) представлен на рисунках 1 и 2.
Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации диагноза. Определение показаний, противопоказаний к применению инвазивных методов диагностики устанавливается врачом-онкологом, а сами вмешательства осуществляются в медицинских организациях, имеющих лицензию по профилю «Онкология». После исключения злокачественных новообразований (ЗНО) женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под диспансерным наблюдением врача акушера-гинеколога [13].
При наличии солидного образования молочной железы по данным методов визуализации, относящегося к категории BI-RADS 4—5, рекомендуется выполнение трепан-биопсии. Если солидное образование характеризуется как BI-RADS 3 и отсутствуют клинические данные, подозрительные в отношении РМЖ, возможно динамическое наблюдение, которое предполагает физикальный осмотр с УЗИ молочных желез, а в ряде случаев — совместно с маммографией 1 раз в 6 месяцев в течение 1—2 лет. Если в процессе динамического наблюдения отмечается рост образования или усиливаются подозрения в отношении ЗНО, требуется выполнение биопсии [7—9].
При наличии простых кист по результатам УЗИ (BI-RADS 2) и отсутствии жалоб рекомендуется только динамическое наблюдение. При больших размерах кист, сопровождающихся субъективными ощущениями, возможно выполнение пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии (ПТАБ) под ультразвуковым контролем [7, 8]. По данным УЗИ простая киста представлена анэхогенным образованием округлой или овальной формы с четкими, ровными контурами, однородной структуры, с капсулой, чаще с эффектом дорсального усиления в серой шкале, без признаков васкуляризации.
При наличии осложненных кист по результатам УЗИ (BI-RADS 3) рекомендуется либо выполнении ПТАБ с эвакуацией содержимого, либо динамическое наблюдение, включающее физикальный осмотр каждые 3—6 месяцев в комбинации с УЗИ ± маммографией каждые 6—12 месяцев в течение 1—2 лет [7, 8]. По данным УЗИ осложненная киста имеет большинство характеристик простой кисты, и, кроме того, внутри могут визуализироваться гиперэхогенные включения различных формы, размеров и структуры (перегородки, тканевой компонент, взвесь и т.д.) без признаков васкуляризации.
При наличии сложных кист по результатам УЗИ (BI-RADS 4—5) рекомендуется выполнение трепан- биопсии [7, 8]. По данным УЗИ сложная киста одновременно имеет анэхогенный (киста) и гиперэхогенный (реже — гипоэхогенный) компоненты, которые могут быть представлены толстыми стенками или перегородками и/или внутрикистозными образованиями с признаками васкуляризации.
У пациенток с односторонними персистирующими спонтанными выделениями из одного протока серозного, серозно-геморрагического или геморрагического характера рекомендуется выполнение УЗИ ± маммографии пациенткам моложе 30 лет и УЗИ + маммографии пациенткам 30 лет и старше. В ряде случаев МРТ и дуктография могут дать дополнительную информацию в отношении патологического процесса и его локализации [7, 8]. Алгоритм обследования пациенток с выделениями из соска представлен на рисунке 3. Одновременно необходимо взять мазок отделяемого из соска на цитологическое исследование. Пациенткам с молозивоподобными выделениями из соска и относящимся к категории BI-RADS 1—3 выполнение МРТ и дуктографии не рекомендуется [7, 8]. Пациенткам с выделениями из соска серозного, серозно-геморрагического и геморрагического характера категории BI-RADS 4-5 для исключения ЗНО показано выполнение биопсии [7, 9].
При галакторее рекомендуется выполнить тест на беременность, исследовать уровень пролактина и исключить прием препаратов, которые могут быть причиной ее возникновения.
Лечение
Консервативная терапия
Сложность определения ведущих факторов патогенеза ДДМЖ не позволяет создать единую модель патогенетической терапии, позволяющую дать рекомендации практическому врачу по выбору рациональных медикаментозных комплексов.
Консервативное лечение ДДМЖ может быть представлено следующим образом.
1. Немедикаментозное.
2. Медикаментозное:
- негормональное;
- гормональное.
Немедикаментозное лечение включает [7]:
- психологическую коррекцию и релаксирующий тренинг;
- подбор комфортного бюстгальтера, эффективно поддерживающего молочную железу;
- ограничение продуктов, содержащих метилксантины (кофе, чай, шоколад, какао, кола) или полный отказ от них;
- употребление пищи с низким содержанием животных жиров и богатой клетчаткой.
К негормональным лекарственным препаратам относятся:
- препараты на основе растительных компонентов;
- препараты на основе индолкарбинола (Индинол Форто);
- нестероидные противовоспалительные препараты (системные и локальные).
Препарат на основе индолкарбинола (Индинол Форто) является универсальным корректором патологических гиперпластических процессов в тканях молочной железы. Индолкарбинол, входящий в состав данного препарата, посредством эпигенетической модуляции генома регулирует метаболизм эстрогенов, тормозит патологическую пролиферацию и активирует апоптоз клеток с аномально высокой пролиферативной активностью, что клинически проявляется уменьшением боли и чувства нагрубания молочных желез, а также уменьшением числа и/или размера кист, снижением маммографической плотности ткани молочной железы [14, 15]. Механизмы действия индолкарбинола характеризуют его как лекарственное средство, обладающее онкопротекторным эффектом, данный результат особенно важен в плане профилактики рака молочной железы у пациенток с циклической масталгией [15]. Препарат Индинол Форто может быть рекомендован для мультитаргетной терапии пациенток как с циклической масталгией, так и мастопатией [14]. Индинол Форто назначается курсами по 200 мг внутрь 2 раза в день в течение 6 месяцев.
Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в терапии различных форм ФКБ обусловлено способностью препаратов этой группы ингибировать синтез простагландинов, которые играют одну из главных ролей в развитии отека, венозного стаза в молочных железах. Кроме того, препараты этой группы бывают эффективными при лечении экстрамаммарной масталгии, обусловленной патологией опорно-двигательного аппарата [7, 8]. Для этих целей чаще всего применяется диклофенак по 50 мг 2—3 раза в день после еды во 2-ю фазу менструального цикла на протяжении 3—4 месяцев. Возможно применение препарата местно в виде мазевой аппликации.
Гормональная терапия является наиболее патогенетическим методом терапии ФКБ, учитывая гормональную регуляцию молочной железы. Тем не менее назначение гормональной терапии требует тщательного предварительного обследования и правильного подбора препаратов, поскольку необоснованное назначение гормонотерапии может привести к обострению болевого синдрома, пролиферации ткани молочной железы и вызвать серьезное побочное действие.
Гормональные препараты:
- селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов;
- гестагены;
- антагонисты гонадотропинов;
- ингибиторы секреции пролактина.
Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов, связываясь с рецептором, прерывают сигнальный путь к стимуляции пролиферации, не позволяя циркулирующим эндогенным эстрогенам осуществлять свое основное действие в органе-мишени. Это становится особенно актуальным в случае гиперэстрогении (абсолютной и относительной), часто наблюдающейся при ФКБ. Использование селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов позволяет добиться терапевтического эффекта у 75—97% пациенток с выраженной масталгией. Но ввиду частых побочных эффектов (приливы, усиленная потливость, тошнота, головокружение, сухость влагалища, тромбофлебиты и гиперплазия эндометрия) препараты из этой группы следует применять в качестве 2-й линии терапии ФКБ [7, 8]. Тамоксифен (off label) рекомендуют принимать по 10 мг в день, торемифен — по 20 мг в день в течение 3—6 месяцев.
Учитывая патогенез развития ДДМЖ, терапия гестагенами является наиболее патогенетически обоснованной ввиду того, что препараты этой группы угнетают функциональные гипофизарно-яичниковые связи и уменьшают стимуляцию эстрогенами пролиферативных процессов в ткани молочной железы. Особенно показаны гестагены пациенткам с ановуляторными кровотечениями, аденомиозом, гиперплазией эндометрия, миомой матки. К сожалению, препараты для перорального применения, учитывая первичный эффект прохождения через печень, могут обладать теми или иными метаболическими свойствами, которые могут проявляться влиянием на систему гемостаза, сердечно-сосудистую систему, обмен липидов, углеводов. С этой точки зрения представляются перспективными препараты местного действия, не обладающие системными побочными эффектами. Прожестожель — это гель, содержащий натуральный прогестерон в количестве 1 г прогестерона в 100 г геля. Это препарат местного действия для перкутанного применения на область молочных желез. Прожестожель уменьшает напряжение и болезненность молочных желез, снижает маммографическую плотность и вызывает регрессию кист по данным УЗИ [16]. Прожестожель назначают по 2,5 г геля на кожу молочной каждой молочной железы 1 или 2 раза в день непрерывно или с 16-го по 25-й дни менструального цикла в циклическом режиме.
Антагонисты гонадотропинов (даназол) вызывают снижение частоты пульсирующих выбросов гонадотропин-рилизинг-гормонов в гипоталамусе; оказывают прямое действие на стероидогенез в яичниках, конкурентно связывая ряд ферментов, участвующих в синтезе стероидных гормонов. Даназол прежде всего показан пациенткам, у которых ФКБ протекает на фоне эндометриоза. При лечении даназолом почти в четверти случаев наблюдаются побочные эффекты различной степени выраженности — как чисто андрогенные (себорея, гирсутизм, угри, понижение тембра голоса, увеличение массы тела), так и антиэстрогенные (приливы). Возможны побочные явления и другого рода — сонливость, депрессия, головные боли, судороги. В связи с этим даназол рекомендуется в качестве 2-й линии терапии ФКБ [7, 8]. Учитывая вышеупомянутые побочные явления, рекомендуется назначать даназол в так называемом режиме малых доз: в первые 2 месяца препарат назначают в дозе 200 мг в день, следующие 2 месяца — 100 мг в день и в последующем — по 100 мг в день только с 14-го по 28-й день цикла.
Ингибиторы секреции пролактина оправданно назначать только пациенткам с лабораторно доказанной гиперпролактинемией. Основной механизм действия заключается в подавлении секреции пролактина посредством стимуляции рецепторов дофамина без влияния на нормальные уровни других гипофизарных гормонов. Назначение бромокриптина сопровождается клиническим улучшением у 47—88% пациенток [4]. Лечение бромокриптином начинают, как правило, с низких доз (1,25 мг обычно перед сном, чтобы предотвратить появление побочных эффектов), увеличивая их на 1,25 мг каждые 3—4 дня, пока не будет достигнута общая доза 2,5—7,5 мг в сутки (принимаемая дробно 2—3 раза в день во время еды). Из побочных эффектов необходимо отметить легкую тошноту, головокружение, слабость или рвоту, которые появляются на протяжении первых нескольких дней. В редких случаях бромокриптин вызывает ортостатическую гипотонию, которая иногда может приводить к коллапсу; поэтому в первые дни лечения рекомендуется контролировать артериальное давление. Достинекс является производным эрголина с селективным, пролонгированным действием, обусловленным персистированием препарата в гипофизе. Начальная доза препарата — 0,5 мг (1 таблетка) в 2 приема (1/2 таблетки 2 раза в неделю) вечером во время приема пищи в течение 4 недель с последующим контролем уровня пролактина крови. Обычно терапевтическая доза составляет 0,5—1 мг в неделю и может колебаться от 0,25 до 4,5 мг в неделю. Побочные действия схожи с таковыми у препаратов бромокриптина. Срок лечения ингибиторами секреции пролактина больных с галактореей составляет 4—6 месяцев.
Хирургическое лечение
Секторальную резекцию молочной железы у пациенток с ДДМЖ рекомендуется выполнять при подтверждении по данным биопсии атипической протоковой гиперплазии (ADH), плоской (flat) эпителиальной гиперплазии (FEA), дольковой эпителиальной гиперплазии (ALH), долькового рака in situ (LCIS), радиального рубца с атипией [7, 17, 18].
Хирургическое лечение кист молочных желез рекомендуется проводить при наличии пристеночных разрастаний, выраженной пролиферации эпителия выстилки кисты и атипии клеток по данным цитологического исследования содержимого полости, геморрагическом содержимом кисты [4, 7].
Диспансерное наблюдение
Риск развития РМЖ у пациенток с ДДМЖ зависит от степени выраженности пролиферативных процессов в ткани молочной железы. Относительный риск РМЖ при непролиферативной ФКБ составляет 1,17 (95% доверительный интервал — ДИ 0,94—1,47), при пролиферативной ФКБ без атипии — 2,07 (95% ДИ 1,58-1,95), при пролиферативной ФКБ с атипией - 3,93 (95% ДИ 3,24-4,76) [19].
Пациенткам с узловыми образованиями молочных желез, включая кисты, относящимся к категории BI-RADS 1-3, рекомендуется динамическое наблюдение - физикальный осмотр 1 раз в 3-6 месяцев, УЗИ молочных желез ± маммография 1 раз в 6-12 месяцев в течение 1-2 лет [7, 9]. Если в процессе динамического наблюдения отмечается рост образования или усиливаются подозрения в отношении ЗНО, требуется дополнительное выполнение биопсии.
Рутинный маммографический скрининг предполагает выполнение рентгеновской маммографии в 2 проекциях и рекомендуется женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года [13, 20].
У молодых женщин молочные железы в большинстве случаев представлены железистой тканью, что более чем в 2 раза (до 30-48%) снижает чувствительность рентгеновской маммографии, т.к. на фоне плотной ткани идентифицировать опухолевые образования крайне сложно. Вместе с тем сама плотная железистая ткань в 4-6 раз увеличивает риск РМЖ [21]. Метаанализ, опубликованный в 2020 г. и включивший 23 исследования, продемонстрировал, что УЗ-скрининг по своей информативности не уступает маммографическому скринингу у женщин с плотной тканью молочной железы. Кроме того, данный метод позволил в 96% случаев дополнительно диагностировать оккультные формы рака, не диагностированные при рентгеновской маммографии [22].